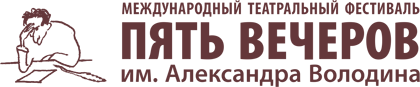Татьяна Шах-Азизова
Пространство Володина
Экран и сцена, № 8 (710), 2004
[…]
Выражение это стало расхожим, звучит банально — что только ни помещают теперь и такую раму пространства. Но что же делать, если почти неделю мне довелось провести именно в пространстве Володина, в прямом смысле слова. Он смотрел на меня с десятков фотографий, которыми сверху донизу были увешаны стены фоне театра на Литейном, где проходил Первый Володинский фестиваль, — большого фойе с высокими потолками. Стихи его и краткие, летучие мысли, выбранные наудачу, мелькали на стендах.
Володинский фон — страстное, живое лицо, глядевшее с экрана во всю высоту сцены — тревожил и будоражил и выступавших, и зрителей. На этом фоне невозможны были ни дежурный пафос, ни официоз. Прославленные Зинаида Шарко и Людмила Гурченко, героини «Пяти вечеров» на сцене и на экране, волновались, словно перед публичным признанием в любви.
Были воссозданы приметы володинского стиля жизни, в том числе — рюмочная. На финальном вечере на авансцене выстроились десятки фирменных стопок со знаменитым володинским слоганом: «Не могу напиться с неприятными людьми». Народ водочку выпивал; стопки уносил как сувениры. В качестве сувенира (наряду с печатной продукцией) была предложена и поллитровка «Пять вечеров» со следующим комментарием: «Водка „Пять вечеров“ содержит пятидневную утреннюю дозу Александра Моисеевича, а также пятидневную порцию советского солдата, получавшего „наркомовских“ 100 г. Способствует пробуждению совести, сострадания к людям, содействует развитию эстетического чувства, разгоняет тяжелые мысли».
В шутку входило серьезное — напоминание о войне и о тех свойствах душевных, что были у Володина с начала и до конца, неподвластные возрасту, жизни и времени. Личность его, сложная, цельная, внутренне свободная, но кровно связанная с тем. что творилось на долгом его веку, — определяла собой все: состав фестиваля, атмосферу его, стиль общения.
Независимость воспеваю.
Я не буду зависеть
от разгильдяев, от негодяев,
от несчетных дневных забот.
от нелюбящих, нелюбимых,
уважающих нас и не
уважающих — мимо, мимо!
Я от этого в стороне.
Рабочим девизом фестиваля могла быть фраза Марины Дмитревской: «Володин сам выбирает людей». Он и выбрал себе команду: директора фестиваля — Виктора Рыжакова, заместителя его — Дмитревскую (душа и мотор предприятия), координатора — Юлию Садовникову и других, озабоченных не престижностью дела, но соответствием его герою, Володину. И театральный дом себе выбрал — на Литейном, во главе с худруком-директором его Александром Гетманом; театр неэгоистического склада, не раз уже проводивший масштабные, трудные акции для других — то фестиваль Гинкаса, то Эфроса. И людей выбирал неслучайных — близко знавших его, и творчески связанных с ним, и просто прикипевших к нему душевно.
Интонация «Мой Володин» господствовала повсюду по-разному. «Миленький ты мой…» — словами этой песни из «Пяти вечеров» был назван прощальный вечер, что отвечало чувству щемящей нежности, которую вызывал, как видно, Володин; которой пропитано было все.
«Мой» — это и знак принадлежности, личной связи, личного права на Володина. Воспоминание — жанр самый личный — стало жанром и книги, и клубных встреч. В «Первой книге воспоминаний», составленной неутомимой Дмитревской, более 20 авторов — коллеги, друзья по театру, по жизни, критики. Люди разные, с разной степенью близости к Володину, разным умением отобрать важное от мелочей, от того, что дорого и интересно только тебе. Их, как видно, не ограничивали в этой свободе высказывания. Поэтому тексты неравноценны. То проницательны и точны, и даже сквозь эпизод виден Володин в целом, и портрет его вызывает доверие. То вдруг скользнет сентимент, или слишком свойская интонация, или крен в сторону человеческих слабостей, будь то выпивка или романические склонности юбиляра (крен этот на фестивале был ощутим). И как бы в потоке интимных воспоминаний (коль скоро он будет длиться) не растворился художник.
«Мне всегда неловко было ему звонить, потому что он великий (это не забывалось ни на минуту), а ему всегда неловко было звонить, потому что отрывает меня от дел» (Марина Дмитревская).
Вот — только бы не забылось. Ведь рядом все-таки жил избранник, как бы он ни стеснялся этого. В калейдоскопе володинских лиц поражали — в любом возрасте — не только живость, импульсивность, экспрессия, но нечто иное — высокое, редкое: вдохновенность. Концентрация духовной энергии. То, что Ефремов назовет «духоман».
Сейчас было важно показать Володина человека — то, что ускользнет и забудется, ибо отряд свидетелей будет редеть, память — ослабевать; вымысел станет теснить реальное; забудутся живые детали. Надо бы их закрепить. За первой книгой будет вторая, а далее — трудное, главное. Володин при жизни своей не дождался достойного о себе исследования, биографии, монографии. Время их — впереди, когда огромный, рассеянный материал будет собран, осмыслен, введен в систему. Придут ученые, сделают свое дело, и вырастет неповторимый художник. Со всем тем «человеческим, слишком человеческим», что оставят мемуаристы.
Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом.
Но обязательно торжествует.
Людям она почему-то нужна.
Хотя бы потом…
Почему-то потом!
«Мой» — это и свой у каждого. Володин был разнообразен, широк, менялся. Кто-то знает его по кино. Другим ближе поэзия. Иным — театр. Хотя театр его неоднороден, недовоплощен, развивался прерывисто. После бурного, быстрого восхождения — обрыв, уход в кино, в любительские коллективы. Театр перестал быть его главным делом, хотя остался его призванием.
Мой Володин — это 60-е годы, БДТ, «Современник»; «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Назначение». Чудаковатые герои, существующие как-то отдельно, вразрез с общепринятым, с общим. Ничего эпохального, за что и сыпались на Володина упреки в «мелкотемье». Земные и слегка сказочные истории, где аллегория не взорвала еще форму, не стала притчей из библейских или вовсе пещерных времен.
«Скучную, обыденную, злосчастную реальность он встречал как красавицу и чудо. … Вместо поэтизации силы предлагал нежность к человеку — существу уязвимому, без брони и в сущности слабому». (И. Соловьева, Из «Первых воспоминаний»).
Что из этого живо сегодня? Что перешагнуло порог оттепели, застоя, перестройки и новый рубеж столетий? Сейчас ведь странное отношение к послевоенным советским классикам — Арбузову, Розову, Володину, Вампилову. Ставят их редко, предпочитая классику старую, — то, что было «позавчера». Не могут (не хотят, не умеют) найти созвучий. А они есть — стоит только вглядеться, услышать мотивы общие, важные для разных времен, да и понять, наконец, что жизнь «вчерашняя» и сама по себе интересна. И найти к этому «вчера» мостик.
Так, как нашли его в спектакле новосибирского Городского театра «Пять вечеров». Эту пьесу Володина ставят чаще других, она стала знаком его театра. Потому, быть может, что более других поэтична — чистой поэзией человечности. И сюжет ее — о странствиях «блудного сына», о его возвращении в город своей юности, к своей любви, к себе — классический сюжет притчи, годный на все времена. Но из своего времени, пред- и послевоенного, его не вынешь — все рассыплется, станет беспочвенным, непонятным: и тайна исчезновения Ильина, и психология Тамары с ее иллюзией «полной жизни».
Время действия у новосибирцев сохранено. Все, как говорится, в эпохе — скромный быт, облик, манеры героев. Их странная на нынешний взгляд наивность. И то, что идет от автора и дальних 50-х: минимум внешнего, все — внутри. Но смотрим мы на это сегодня. Режиссер Сергей Афанасьев окружил место действия легкой рамкой: якобы снимают телеспектакль по пьесе «Пять вечеров». На сцене — монитор и экран, сделанный из простыни и подвешенный на веревке. На них мы видим (в иных ракурсах) то, что на сцене — и то, что за ней; видим героев, у которых продолжается внесценическая их жизнь. Смешной долговязый оператор мается со своей техникой, то остраняя действие, то встревая в него — нечасто, легким штрихом, не вторгаясь в главное, в суть.
А суть — в отношениях этих людей, сыгранных ансамблево, точно, узнаваемых для тех, кто застал их время. И более всего — в Ильине (Николай Соловьев) с его глубоко скрытой тайной. В этом загадочном человеке ощутима мужская сила и воля, и драматический слом судьбы, и постоянное напряжение души, стремящейся сохранить тайну — и вместе с тем избавиться от нее. Самый акт избавления, освобождения, оттянувшийся до финала, дан крупно, на телеэкране: просветленное лицо Ильина в ночной дуэтной сцене с Тамарой (Ирина Денисова), этой володинской Сольвейг, дождавшейся своего Пер Гюнта. Торжество русской психологической школы в эпоху ТВ, которое ей не мешает.
Задача стыка времен в «Фабричной девчонке» была много сложнее. Бытовое здесь гуще, весомее, чем в «Пяти вечерах». Его не обойдешь, как и нравы комсомольской общаги, с ее смешными на нынешний взгляд правилами, с не слишком смешным догматизмом, способным сломать судьбу, с теми приметами дня, которые молодым нелегко понять, но без них не понять пьесу.
Молодые, однако, поняли — почувствовали, вернее. Дипломный спектакль Нижегородского театрального училища (режиссер-педагог Елена Наравцевич-Фирстова), игровой, легкий, студийный, был вместе с тем серьезен и точен. Слегка подчеркнут типаж эпохи, при этом все фабричные девочки — разные. Но главным был интерес к происходящему (столь «вчерашнему»), вера в него — на сцене и в зале. Кредит доверия к театру сегодня высок, хотя сам театр порой не верит себе. И тогда поступает так, как в той же «Фабричной девчонке»: переводит историю Женьки Шульженко в другой регистр. И вместо бесстрашной правдолюбки с «критическим направлением ума» появляется крутая задира с буйным темпераментом, раскованная во всем, этакая жар-птица в общаге, роскошная, как модель. Придумано и сыграно ярко, но — звучит диссонансом.
Мы плохо знаем нынешний молодой зал, театрально непросвещенный, но (по слову А. Островского) «свежий», жадный до впечатлений, открытый для многого, разного, от старомодной классики до «бульвара», в том числе и для «ретро», которое и есть «вчера» . Недаром юные зрители РАМТа с интересом смотрят ранний вариант арбузовской «Тани», сыгранный юными же актерами. И думаю, зрители в любом возрасте будут смотреть «Назначение», которое почему-то не ставят (боясь, видимо, острой его социальности), и «Старшую сестру», и другое.
Так смотрели они на фестивале спектакль «Театра на Литейном» «С любимыми не расставайтесь», где режиссер Александр Галибин не стал бороться с устаревшими реалиями (теперь так не разводятся — все много проще, быстрее), осовременивать моду или типаж. Все оставил как есть — как было, в том, но и в этом времени, соединив вечной темой непонятой любви и разлуки.
Так смотрели спектакль театра из Тольятти «Колесо» имени Г. Б. Дроздова «Уйти, чтобы вернуться» («Ящерица» ), притчу из «первобытного» цикла Володина на вечные опять-таки темы войны и мира, любви и вражды, сделанную молодежной командой: молодой режиссер Сергей Морозов, молодая, энергичная, сильная труппа. Перебор (на мой устарелый взгляд) силовых приемов и энергетики, видимо, был им нужен; это — их язык, современный, и они шли к Володину от себя.
Обо всех семи спектаклях не скажешь. Умолчим о московских, известных («Пять вечеров» Сергея Арцибашева в театре «На Покровке», «Где тут про воскресение Лазаря?» в театре «Около…», где Юрий Погребничко соединял Володина с Достоевским). Отметим лишь, что все семь не случайны, но в стране Володина мало; он погоды в театре не делает. А жаль: при нашем репертуарном сумбуре и душевной сумятице был бы весьма полезен. И здесь фестиваль, всколыхнувший нам память, может многое сделать. Найдя свой ритм, свою частоту, он может разнообразиться и расширяться, включая в себя не только театр, но поэзию и кино, дискуссии и беседы. Самого Володина и других, кто был рядом с ним и после него. Просвещать и привлекать молодежь. Стимулировать театр Володина и научную мысль о нем.
Наш нетипичный классик этого, право, достоин.