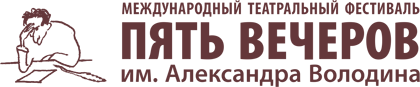Константин Щербаков
…И отзывается живой человеческий голос
В буклете Первого фестиваля имени Александра Володина «Пять вечеров» на тех страницах, где представлены действующие лица и исполнители фестивальных спектаклей, рядом, неотчетливо, словно в дымке воспоминаний, — фотографии других исполнителей — тех, что были первыми, а сегодня стали легендой. Зинаида Шарко и Ефим Копелян, Людмила Гурченко и Станислав Любшин…
Сейчас Шарко и Кирилл Лавров приходили на спектакли, оставались на вечере встречи. И когда Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева и Российский государственный Театр на Покровке показали в фестивальной программе «Пять вечеров», в первые минуты сценического действия возникло у меня странное чувство отторжения: на месте нынешних хотелось видеть те лица. Память сопротивлялась, настолько значительное и прочное, никому более не доступное место занимают в ней прежние «Пять вечеров».
Но когда Татьяна Швыдкова (Тамара из спектакля Покровки) запела «Миленький ты мой…» и давний спектакль Большого драматического отозвался, откликнулся (к тому же спектакль игрался на Малой сцене БДТ), я окончательно почувствовал себя в зале естественно и свободно. В какой-то момент (я не уловил его с той же определенностью) нечто подобное произошло и на спектакле новосибирцев.
«Пять вечеров» не остались только пьесой-воспоминанием, спектакли Сергея Арцибашева и Сергея Афанасьева показали это со всей несомненностью. Притом что это — спектакли-ретро, демонстративно неосовремененные. В спектакле Афанасьева дистанция, остранение еще и подчеркнуты: на сцене телекамеры, суетятся операторы, сегодняшнее бойкое телевидение запечатлевает давний драматургический шедевр. Герои, однако, на сцене другие (сейчас о мужчинах речь), не те, что были в спектаклях Товстоногова, Ефремова, в фильме Михалкова. Время уверенно двигалось в сторону жесткости и цинизма, успешно избавляясь от таких понятий, как сентиментальность и милосердие.
Новосибирский Ильин — Николай Соловьев так уходил из приютивших его домов, угрожающе размахивая перевязанным веревкой чемоданом, что, казалось, ноги его здесь больше не будет. А когда Слава в спектакле на Покровке пытается задержать гостя хотя бы до прихода Тамары, Арцибашев — Ильин швыряет мальчишку на пол с остервенением и глаза у него холодные, бешеные, видно — боксерские навыки не раз выручали его в этой жизни. Науку выживания любой ценой этот Ильин, похоже, освоил вполне. Ни Копелян, ни Ефремов такими не были.
Пьеса «Пять вечеров» тоже совершала движение во времени — непредсказуемое, свое. Четыре с лишним десятилетия назад шквал официальной критики обрушился на Володина, в сущности, за то, что мы увидели себя в его пьесах такими, какими мы были, а не такими, какими должны были видеть в соответствии с официальной доктриной. За прошедшие годы совершеннее мы не стали, скорее наоборот, так поворачивала, закручивала многообразная наша действительность, — и Володин сегодня, сейчас говорит нам об этом.
Это важно, однако важнее другое. Володин писал свои пьесы в пору, когда пробуждалась надежда. Сегодня, сейчас он втолковывает нам ненавязчиво, тихо, что даже в пору утраты надежды ее все равно, все равно не надо утрачивать. Может быть, это — в первую очередь — делает его писателем на все времена. «Пять вечеров» на фестивале «Пять вечеров» — это спектакли надежды.
Женщины в володинских пьесах — вот кто, пожалуй, не меняется по ходу лет, по ходу спектаклей. И Катя, и, конечно, Тамара (в новосибирском спектакле ее играет Ирина Денисова) куда более похожи на себя прежних, чем мечущиеся, неприкаянные мужики, — неубитой способностью ждать и надеяться, сохраненными (как удалось-то?) запасами любви, нежности, сострадания.
Речь героев «Пяти вечеров» Володин обильно пересыпает стертыми словами, клишированными оборотами (речь Тамары, быть может, самой сокровенной своей героини, особенно). Сквозь идеологические штампы пробиться было неимоверно трудно, только какое же это драматургическое, театральное чудо, когда за тусклыми, ничего не выражающими фразами (что-нибудь насчет полной общественной жизни, которой она, Тамара, живет) вдруг явственно слышалось непроизнесенное, беззащитное, нежное: Саша, я люблю тебя, не уходи, Саша… Пусть ей, рядовой, законопослушной советской работнице, долго вдалбливали в голову — и вдолбили, — что читать нужно письма Маркса, а не стихи Ахматовой, только сутью и смыслом ее жизни (даже когда она не осознавала этого) оставалось: я люблю тебя, Саша…
Памятник бы надо Володину, какой-нибудь тихий, скромный, маленький — от женщин России.
Обделенные заидеологизированной жизнью люди смотрели спектакли Володина и начинали понимать, что счастье — не на праздничной демонстрации, где множество голосов сливаются в общий рев. Счастье — это когда живому человеческому голосу отзывается живой человеческий голос.
Теперь место «родной партии», «развитого социализма» заняли «рыночная экономика», «дикий капитализм», «управляемая демократия» — клише прямо противоположные, но столь же прилипчивые, неотвязные. И театры обращаются к Володину в надежде, снова в надежде, что именно он поможет освободиться от шелухи, различить в нашей новой, циничной, жестокой жизни живой человеческий голос. Здесь, мне думается, простой секрет московских и новосибирских «Пяти вечеров».
«Только бы войны не было» — финальная реплика Тамары. Взрывы в Москве, тревожно спускаться в метро, и этот смысл вплетается с неотвратимостью, но о нем вспоминаешь потом. А сейчас на сцене мужчина опускается на колени перед женщиной, и руки ей целует, и кофточку. И нет ничего выше, значительней, и комок подступает к горлу, как тогда, в 59-м, когда Георгий Товстоногов впервые поставил «Пять вечеров». И еще — финальный, отчаянный женский крик из другой пьесы: «Я скучаю по тебе, Митя!» И тоже не одно десятилетие прошло с тех пор, как он прозвучал впервые в спектакле Геннадия Опоркова «С любимыми не расставайтесь», и снова — комок в горле.
Вот ведь что получается. Десятилетия минули, возносились на вершины успеха, а потом забывались, будто их и не было, писатели, политики. Да что политики, великая страна распалась на несколько стран, которые с недоумением поглядывают друг на друга — что же теперь делать-то? (Недавно был в республике Беларусь, какая там заграница, господь с вами.) И столько всего, что казалось незыблемым, поменялось, исчезло, утрачено. Но что-то же должно было остаться, не может быть так, чтобы все поменялось, исчезло.
Да вот это и осталось. «Только бы войны не было». «Я скучаю по тебе, Митя!» И произносят эти слова артисты, те спектакли, скорее всего, не видевшие.
И нечеткие, словно в дымке, фотографии Зинаиды Шарко, Ефима Копеляна в володинском фестивальном буклете. И живому человеческому голосу отзывается живой человеческий голос.