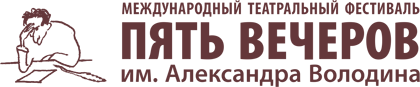Татьяна Ратобыльская
Володин и володинское
Иду полузабытой длинной подворотней, соединяющей Моховую и Литейный. Снаружи много незнакомых вывесок, а кривые извилины подворотен все те же — как в мои студенческие времена. Внимательно рассматриваю знакомые трещины дворика на Моховой, 35, изгибы дощатых курилок и коридоров здания напротив. И институт не изменился: те же подвальные гардеробчики, вытертые и продавленные подошвами ступени лестниц, щелистые окна. Получаю удовольствие от исхоженности троп. Казалось бы, приехать за тысячу километров, чтобы увидеть обшарпанный коридорчик юности? Я думала, только у меня такой обостренный ностальгический взгляд в прошлое. Но первый же спектакль володинского фестиваля «Моя старшая сестра» Льва Стукалова («Наш театр») погрузил всех в поэтически стилизованный мир советской романтики с песнями Булата Окуджавы и знакомыми интонациями актеров прошлого.
И тогда стало ясно, почему А. Володина играют сегодня и что объединяет нас вокруг этого имени: общая судьба и эта уходящая навсегда натура советской жизни, говорящие детали быта, причем «советского» отнюдь не в привычно ругательном смысле, а в ностальгическом — как тоска по некой потерянной общности или еще более лично — тоска по детству и юности людей, сидящих сегодня в зале. У каждого поколения своя точка отсчета: шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые или отзвуки родительских песен, надежд и жизненных историй. Нет конфликта поколений сегодня в зале, все связаны общей историей и умирающей атмосферой эпохи, как персонажи гибнущего вишневого сада.
Стилизация радостно выплескивалась за пределы сцены Театра на Литейном. Шумно и весело стояла в антрактах очередь в «рюмочную» к уже легендарной Клаве, продающей кильку и стопочки по советским ценам. Тоска по прошлому, по некому человеческому единству стала сквозной темой фестиваля, как это ни диковато звучит. Она так явственно о себе заявила, что иногда смешивалась с открытой, порой бесстыдной поэтизацией рюмочно-водочного образа жизни, став настырной и прямолинейной в заключительном спектакле «Записки нетрезвого человека» Владимира Оренова.
В «Моей старшей сестре» Л. Стукалова, о котором «ПТЖ» уже писал в № 38, вдруг самым эмоционально сильным местом стал монолог Нади — воспоминание о детском доме. Звонкий, чистый, по-пионерски наивный и пронзающий сердце монолог повторяется два раза и бьет в болевую точку. Поэтому и имена в спектакле звучат реальные — из актерских выпусков шестидесятых годов, поэтому и нескрываемые цитаты из Людмилы Гурченко и Татьяны Дорониной в игре талантливой актрисы Елены Мартыненко. Володинская пьеса сегодня выглядит слишком пафосной. Режиссер с молодыми актерами уводят ее пафос в область поэзии и тонкой стилизации. Пьеса играется как поэтическая драматургия. «Надежды маленький оркестрик» Булата Окуджавы созвучен ранней володинской драматургии, это воплощение камерной, интимно-духовной, неофициальной общности.
На фестивале, кроме пьес А. Володина, совершенно справедливо показывалось и то, что условно можно назвать «володинским», то есть продолжающим сегодня его традиции. Например, «Сонечка» МХАТа в постановке Марины Брусникиной по прозе Л. Улицкой. Спектакль сыгран молодыми актерами и даже в похожей на стукаловскую эстетике поэтического студенческого зрелища, коллективного портрета времени. Актеры поют замечательно. Но проза Л. Улицкой никак не собрана драматургически, осталась сценическим чтением в лицах, причем даже эти «лица» не закреплены за персонажами. Текст разбивается на эффектные куски, существующие вполне самостоятельно, как этюды по сценической речи, сюда вполне органично вписываются цитаты из Толстого или Гоголя всего лишь по той причине, что русская литература герою Роберту не нравилась… О ком хочет рассказать театр: о судьбе Сонечки, о Роберте, о бесшабашной Тане или о Ясе? Все «романы» Сони и Роберта, Тани и Яси, Роберта и Яси читаются с одинаковой долей детальности и пафоса. Нет и центрального события, сквозь которое можно было бы пропустить эту бесконечную семейную хронику. Дробность, тягучесть прозы стушевывает ощущение времени, не переходит в обобщение судьбы поколения, остается частной семейной хроникой.
«Зеленая зона» Сергея Афанасьева по пьесе М. Зуева (о нем «ПТЖ» писал еще в № 25). Истории многочисленных обитателей послевоенного барака, надеющихся переехать в хрущевскую пятиэтажку, поданы с такой сочностью, тонкой нюансировкой, добротой, юмором и так воплощены в актерской игре высшего пилотажа, что сразу захотелось назвать этот мир Советским Замоскворечьем, а режиссера и драматурга сравнить с Островским. Репризная игра актеров, буквально купающихся во вкусных деталях (и где только это все подсмотрено?), полна драгоценных подробностей. Зал стонет то от смеха, то от слез, микрофон на сцене подчеркивает театральный характер игры — на бис. Типажи подобраны так, будто режиссер десятилетие их коллекционировал. Вот где действительно судьба народная на срезе 1950-х. Над бытом есть и обязательное пространство мечты, два берега существования персонажей: комическое, почти фарсовое — и отлитая в поэтическую метафору мечта о прекрасном сказочном береге. Чудной, вроде и нездешний житель Поэт (Артем Голишев), «придурок» именно этой среды и времени, в стихотворении «доплывает» до другого, чудесного берега и… оглянувшись, видит родную сторону как сказочную страну мечты.
Совсем неслучайным оказался на фестивале спектакль Резо Габриадзе «Осень моей весны». Может быть, сейчас действительно пришел час хроник. Хочется, чтобы время заговорило. Спектакль Габриадзе, вызывающий ассоциации с «Амаркордом» Феллини, густо заполнен вздохами времени. Здесь куклы и декорации созданы как бы из подсобного материала — магазинных ящиков, больничных тумбочек, картонок, брошенных колес, — а в результате на сцене рождается колоритная, очень национальная кутаисская среда, и в то же время это пространство поэзии: мы плывем вместе с голосом автора на поэтической волне воспоминаний. Спектакль напоминает сны о детстве. А во сне мы летаем. Быть может, поэтому главный персонаж спектакля — птица. Длинноносый говорящий Боря Гадай — свой среди людей, но и оттеняет их своей птичьей природой. Он не такой, как все. Может быть, это душа народа или лирический герой Габриадзе.
Хорошо, что фестиваль сразу же разросся молодежными программами. Питерские студенты облюбовали «Две стрелы» Володина, где в спектакле Владимира Михельсона особенно выделился Ушастый -Дмитрий Кочкин, со вздыбленными волосами, готовностью всем противоречить, детской взвинченностью и беззащитностью. А московские студенты школы-студии МХАТ неожиданно современно и трогательно-смешно сыграли «С любимыми не расставайтесь» (режиссер Виктор Рыжаков), пьесу давно вроде бы устаревшую.
Кроме того, фестиваль инициировал конкурс драматургии, прошли читки отобранных пьес, среди них призовая — «Летит» Ольги Мухиной.
«5 — 25» молодого драматурга Данилы Привалова показывалась как уже реализованный молодежный проект. В этой пьесе, близкой фантастическим сценариям и литературным притчам Володина, герой, как фокусник в шоу, оказывается в преисподней. Встреча оттягивающихся друзей-наркоманов и пришельца с того света провоцирует игру ума и создает поле для актерских реприз. Хотя два философски-опоэтизированных самоубийства для одной пьесы, наверное, слишком много.
Неприятно поразил только один спектакль — «Записки нетрезвого человека» В. Оренова новосибирского театра «Старый дом». Грубый крикливый тон, устаревшая эстрадная манера подачи сценического текста, впрямую пропагандируемое пьянство произвели угнетающее впечатление. Подумалось: не дай бог свести володинскую ауру и традицию его драматургии к нетрезвому духу и попойке. Никакая это не русская традиция. Для русской традиции пьянство — все-таки стыд.
Ни на одном фестивале не услышишь столько воспоминаний, восклицаний «а помнишь?», столько театральных баек. Володин провоцирует вспышки откровенности на сцене и в жизни, желание «взяться за руки» со старыми друзьями. Будто в последней стадии горения каждый старается запечатлеть следы исчезающего уклада жизни, все взывает к чувственной памяти.