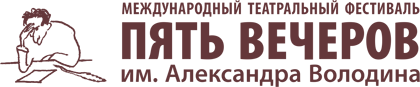Елена Горфункель
Три вечера в 2010
Драматургия Володина не равноценна. Ее можно разделить на «естественные» и «искусственные» пьесы. Все «естественные» — «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», «С любимыми не расставайтесь», «Назначение», киносценарии — о нас, о них, о конкретном времени. «Искусственные» — «Две стрелы», «Мать Иисуса», «Дульсинея Тобосская» — тоже вроде бы о нас, о них — но вообще и о времени вообще. Они сохраняют черты письма Володина и все же морально и поэтически выпрямлены. Они притчи, не всегда ясные, не всегда органичные, они — заповеди на основе какого-нибудь вполне абстрактного сюжета. Для Володина такое «отчуждение» было тактикой, попыткой сказать все до конца о стране, ее порядках и нравах. Но сила его была не в публицистике, а в наблюдательности, слиянии с жизнью, юморе, одиноком блуждании по морю реальности, и тактика «правды» действовала сама собой, без специальных подходов. Володин привел на сцену знакомых незнакомцев, «угловых» людей. Попытки отнять у них место и время, как правило, не удаются. Потому что они вписаны драматургом в эпоху «от и до». Вечное в них — потом, а сначала — точно, до года, отмеренное. «Искусственные» пьесы с датами не считаются. В них сначала — вечное, точное — напоследок. В «естественных» пьесах — угадывается (но не провозглашается!) тихий пафос честного и частного. В «искусственных» этот пафос ближе и громче, человек в них коллективист по образу и подобию борца и героя. В них есть старательность и обдуманность, которой, по первому впечатлению, лишены «естественные» пьесы. В «естественных» внутреннюю работу, муки сочинительства перекрывает вдохновение. Когда предтечей Володина называют А. П. Чехова, то забывают об аллергии классика «новой драмы» на драматургию «темы», «злобы дня» и «моральных примеров». Непредставим Чехов — автор притчи в диалогах о каком-нибудь Кесаре-галилеянине. А. М. Володин, в отличие от Чехова, раздваивался. Он верил в учительство литературы, в том числе и драматургии. И забывал об этом, когда сочинял простые истории. Во времена раннего Володина «эзопов язык» — гражданственная речь. Не случайно «Лиса и виноград», одна из первых постановок Товстоногова в БДТ, потрясла публику образом великолепного иносказателя и борца за индивидуальную свободу Эзопа. На тропу Эзопа иногда хотелось встать и Александру Володину.
«Искусственные» его произведения не обойдены вниманием, их тоже ставили и ставят в театре, снимали и снимают в кино, разбавляли и разбавляют музыкой, переделывали и переделывают в мюзиклы, и лучше они от этого не становятся. Осадок предумышленности сохраняется. Они существует доныне в виде неизменного приложения к настоящему и естественному Володину. Он же собственной персоной, независимо от того, кто и как его делит, на каждый фестиваль своего имени и имени его лучшей пьесы является разным. По афише, качеству, интересу. Такие размышления сопровождали меня в феврале 2010-го по дороге на спектакли шестого володинского съезда, а три вечера как раз были соединением «естественного» и «искусственного».
Более всего ставятся «Пять вечеров». Пьеса, давно имеющая статус «Чайки», советского сценического открытия ХХ века. Открыл пьесу и Володина Г. Товстоногов в БДТ в 1959 году. Напомню (с особенным удовольствием напоминаю историю володинского взрыва), что до «Пяти вечеров» в ленинградском Театре им. Ленинского комсомола шла «Фабричная девчонка», но должного впечатления не произвела (кстати, жаль — очень хорошая пьеса, недооцененная). Другое дело «Пять вечеров» — как будто на зал обрушилась жизнь, пробив до самой улицы бархатно-золоченные изнутри стены театра. Спектакль БДТ стал и классикой, и каноном. Кто не хотел бы войти в историю театра так, как вошли в нее Зинаида Шарко (Тамара), Ефим Копелян (Ильин), Кирилл Лавров (Слава) и Людмила Макарова (Катя)? По сей день все новые постановки «Пяти вечеров» соотносятся со спектаклем Товстоногова — лирическим, тихим, своевременным, по-настоящему человечным, правдоподобным и поэтичным. По сей день крепость товстоноговских «Пяти вечеров» никем не взята.
На шестом фестивале памяти и присутствия (во что верилось даже закоренелым материалистам!) А. М. Володина под названием «Пять вечеров» было два варианта «Пяти вечеров» — из Омска и из Димитровограда. Омский Пятый театр (какое-то стихийное столкновение пятерок!) попробовал пересмотреть сюжет пьесы со всем в нем недосказанным — и наружно, и по новопрорытому в содержании каналу. Так появилась Дворничиха — персонаж откуда-то из Володина, из недр его прозы и поэзии. Эта Дворничиха сочиняет стихи — из запасов Александра Моисеевича. Она вспоминает о войне и блокаде, она «подсмотрела» сюжет в пять вечеров о бывшей любви и новой встрече. И возможно, намекают нам, что Дворничиха не рассказчица, а участница — та самая Тамара с «Красного треугольника» и что весь володинский хороший конец — не что иное, как душевный иллюзионизм. На самом деле Тамара никакого Ильина после войны не встретила. На самом деле она так и не вышла замуж, племянника у нее не было, и каждый Новый год она всего лишь подбирает на дворе елочные блестки чужих праздников. На первый взгляд — интереснейшее продолжение. Или углубление — как будто в «Пяти вечерах» недоставало трагизма или хотя бы драматизма. Наверное, хороший финал Константину Рехтину, режиссеру-постановщику Пятого театра, показался слишком гладким. И его исправили на плохой, так чтобы за душу брал. Глядя на этот «мужественный» финал, я вдруг подумала, что хэппи-энд «Пяти вечеров» никем и никогда однозначно гладким и не воспринимался. Даже публика БДТ в 1959 году, искренне радуясь тому, что Ильин нашелся, что остался он с Тамарой, что впереди у них долгая счастливая жизнь, «только бы войны не было», публика, которой и клеенка на столе, и байковое одеяло на раскладушке представлялись верхом театральной правды, — эта публика в душе понимала, что есть правда жизни и есть правда театра и что театр — иллюзион. В нем сбываются надежды, как сбылись они у сценических героев Александра Володина. А что касается жизни… «Кубанские казаки» — ведь тоже иллюзион, хотя были в стране колхозы-миллионеры, и мой четвероюродный дядя в Оренбуржье был председателем такого колхоза.
Константин Рехтин, пожалуй, перестарался в желании быть правдивее и глубже ленинградской сказки. Он переделал ее в рождественскую сказку. В комнате Тамары стоит зеленая елочка, и, когда Ильин исчезает неизвестно куда и Тамара смиряется с этим, она выносит елочку из дома. Все, праздник кончился, блестки сняли, сложили в коробку, а елку — символ иллюзиона — без признаков сожаления убрали подальше. Конечно, Володин сочинял добрые сказки, но не голливудские. Наши сказки неяркие, негромкие, без Санта Клауса, пирамид из подарков и зажаренного гуся. Всего этого нет и в «Пяти вечерах» из Омска. Простите за преувеличение. С другой стороны, нет и настоящей — хоть новой, хоть старой — правды. Свою версию Рехтин строил на специальных, тоже как будто углубляющих, контрастах. Вот Ильин — простачок, нелепо смеется-блеет, биография его мелкая, и эта человеческая мелочность должна была открыть другого, негероического Ильина. Может, и отбывал он в Сибири по «уголовке». Открылся такой Ильин — и что? Ильина играет хороший омский актер Сергей Зубенко. Его сильная сторона — роли второго плана, характеры прямиком из жизни. Свой актерский запас он использовал в Ильине. Сходство с володинским человеком в том, что это не герой широких плеч, громких речей и ярких поступков. Различие перевешивает, и различие в том, что володинский человек, как бы скудно и скупо он ни жил, обладает гипертрофированным чувством собственного достоинства, гордостью не по положению, а по самоуважению. Омский Ильин обходится без этих качеств. Он не только прост, он — простофиля.
Или Тамара: элегантная, стройная, стильно одетая дама. С ней могла произойти горькая любовная история, как с володинской Тамарой или с Тамарой Зинаиды Шарко. Только у тех — тихо, про себя, а у этой — как-то принципиально напоказ. Лариса Антипова, тоже хорошая и опытная актриса, со знанием дела изображает нетерпимость, волю, энергию — кого бы вы думали? Скорей всего, тогдашнего секретаря райкома. Тоже открытие. И точно эти двое — не пара. Открытие не стыкуется с открытием. А раз так, то связного театрального пересказа классической пьесы не выходит. Ведь в театре как бывает? Если спектакль состоялся, то все режиссерские жесты для тебя оправданны, а если не состоялся, то всякое лыко режиссеру в строку.
Должны ли герои пьесы, давно классической, быть такими, какими они явились на свет или какими их видели первые зрители? Не знаю. «Уж сколько раз твердили миру», что Гамлет, например, благороден и справедлив? От этих повторений число Гамлетов дурных и больных не уменьшается. Но число благородных и справедливых Гамлетов так велико и они так интересны без искажений в их природе и характере, что сопротивление автору, Шекспиру, кажется отбитыми атаками. В конце концов ленинградская атмосфера растает, потеряется, забудется, что тогда режиссеры, актеры, зрители прочтут в «Пяти вечерах»? Мелодраму. Это и есть мелодрама — в ранге шедевра, в сплетении исторических и психологических мотивов, которые давали современникам «другую» правду, надежную и близкую. Ее сила заключалась не в отрицании, а в утверждении. Володин никого не критиковал, он не был сатириком. Он был защитником, адвокатом. Боюсь, что время упрощенной мелодрамы наступило быстрее, чем хотелось бы, и спектакль Константина Рехтина пытается спасти Володина от того, черед чего еще не наступил. Для него эта пьеса слишком очевидна и слишком чувствительна. Из лучших побуждений ее усложнили. Вышло не слишком удачно.
«Хорошую мелодраму, — говаривал Бернард Шоу (скрывавший в себе страсть к этому жанру), — написать труднее, чем все эти умные-преумные комедии: для этого надо проникать в самую сущность человеческой природы, и если только она оказывается достойной, тут тебе тогда и Лир и Макбет». В омских «Пяти вечерах» Лир и Макбет не ночевали. Зато в нем есть будущее — Слава и Катя, вторая история любви. Евгений Фоминцев и Елена Заиграева одеяло, как говорят в театре, перетянули на себя. За что их следует поощрить, а не укорять, потому что отношения Кати и Славы, пусть фарсовые, правдивы, непосредственны и современны. Слава богу, этих персонажей не старались «прочитать заново». «Приколы» и кривляния Славика, его вкусы, музыка, которую он слушает, обещают в скором времени крутого «шестидесятника». Молодые актеры, бывает, переигрывают — видно, что комические повороты сюжета увлекают их какой-то импровизационной непредсказуемостью. Но есть и трогательные, задушевные минуты в этой фарсовой скачке. Одна из них — с гитарой, когда Катя сидит на стуле, держа ее в руках, а Славик сзади обнимает — не Катю, а гитару, и они в четыре руки тихонько наигрывают и напевают что-то романсное. Забываешь, что это театр и что это всего лишь профессионализм.
Забываешь о том, что перед тобой не профессиональные актеры на спектакле димитровоградского Театра-студии «Подиум». Володин сравнял любителей и асов, любителей поднял до мастеров? Пожалуй, нет. По почти незаметным деталям, по старательному почерку исполнения и даже по отсутствию тактики штампов, уверток и следов халтуры, наигрыша угадываются любители. Но это потом, когда оценишь точность характеров, отношений, мизансцен. Студийцы умеют жить внутренней жизнью — наука, освоенная с помощью режиссера Владимира Казанджана. У него педагогика сочетается с замыслом, достойным володинской драматургии. Например, Зоя — случайная подружка Ильина, роль второго плана. Как правило, это более или менее самобытный персонаж, колоритный — и дистанцированный от истории Ильина и Тамары. У Казанджана Зоя включена в главную историю, потому что она — двойник Тамары, ухудшенная копия, Тамара и Зоя — один женский тип. А сколько из этого хода можно извлечь оттенков и сопоставлений, сколько противопоставлений — видно по спектаклю. От дамских сумочек до мимики и прически. Каждого из немногих участников этих «Пяти вечеров» есть за что похвалить и одобрить. Тимофеева — Владимира Лифшица — за портрет позитивного современника, добродушного и жизнелюбивого. Зою — Светлану Купкину — за разнообразие красок, за сочувствие героине. Катю — Ирину Коноплянову и Славу — Алексея Алещенко — за слаженный дуэт, за юмор этаких новоявленных Мальвины с Буратино. Ильина — Сергея Борисова — за добротный мужской характер. И все же героями димитровоградских «Пяти вечеров» стали Тамара в исполнении Ольги Троицкой и… сценография. Что касается Троицкой, то ей удалось найти уязвимое место в характере Тамары, которая всегда более или менее или просто однозначно положительная, «не виноватая». Здесь Тамара и горда, и предубеждена. Это «Гордость и предубеждение» по-русски. Она требовательна — на меньшее, чем исключительный Ильин, неординарный, состоявшийся во всех смыслах, она не согласна. Когда Ильин ждет от нее решения — бросит ли все, уедет с ним в неизвестность, на север, чтобы начать все с начала, — Тамара недолго колеблется и отказывается. Что ж, ей придется передумать и довериться чувствам более, чем разуму. Отринуть гордость и превратиться в Пенелопу, которая ждет и верит без расспросов. Признав себя неправой — и неправедной, — этой Тамаре легче простить Ильина. «Саша, я тебя уважаю» сказанное Ильину, когда он готов уйти во второй раз, насовсем, — это типично володинское объяснение дороже всяческих «я тебя люблю». Троицкая для каждого душевного шага Тамары находит верные физические состояния — как не оценить три ее реакции на звонки в последней картине? Ожидание Ильина, разочарование оттого, что это не он, отчаяние, что так и не вернется, — актриса «расписывает» какую-то анкету встречи на жесты, позы, взгляды. А ведь не скажешь, что это идеальная по облику, по поведению володинская Тамара, да и за кулисами Ольга Троицкая больше похожа на обычную горожанку из провинции, чем на блокадницу и ленинградку.
Ленинградскую атмосферу спектакля создает художник — он же режиссер Владимир Казанджан. Как подлинны все бытовые детали, как «правильны» стол, стулья, комод, коврики, салфеточки, клеенка на столе, чертежная студенческая доска, как достоверно, что все время бормочет радио (хотя и заглушает некстати актеров)! Музейная точность? Отнюдь нет — живое обаяние среды, которую декорация реконструирует со знанием таких подробностей, что, казалось бы, исчезли из памяти не то что потомков — даже современников А. Володина. «Комната» Тамары — одно из театральных чудес, они не часто удаются сценографам. Не важно — реализм, символизм, абсурдизм; реквизит из антикварной лавки или пратикабли из театральной столярки, — важно угадать, в каком окружении состоится настоящий контакт пространства и пьесы. Казанджан не мнит себя сценографом-поэтом. Он делает так, чтобы персонажи жили, а зрители верили этой жизни. Пьеса им никак формально не переосмыслена, но спрятанные смыслы обнаружены, они доказательны. Что же касается сценографии, то она на первом месте, и ловишь себя на мысли, что такая вдохновенная визуальная интерпретация — верный ключ к «Пяти вечерам».
В третий вечер меня ждала «искусственная» пьеса «Две стрелы». Сколько ни ставилась она, назвать удачные спектакли не могу (бывали «громкие», «смелые», но художественно весомых — не знаю). Традицию не сломал и Сергей Федотов, режиссер-постановщик и глава театра «У моста» из Перми. Федотова по МакДонаху и Гоголю хорошо знаем, у него серьезная режиссерская репутация. И такой режиссер поверил в первобытные, доисторические обстоятельства, предложенные драматургом? Поверил настолько, что гримам, костюмам, дубинам, стрелам и прочим «доподлинным» деталям уделил главное внимание. Пестро разукрашенная разудалая масса чесалась, скакала, испускала множество шумов разных высот и тембров. Хор-ансамбль полулюдей старался сымитировать какое-то древнее сообщество, мораль которого в становлении, но одновременно (как предлагал драматург) это мораль общества разлагающегося, цивилизации, не оправдавшей надежд гуманизма. Увы, страсти по морали общества и индивида утонули в реализме — той самой «правде», что заставляла персонажей из каменного века пускаться во все тяжкие — например, волна недовольства прокатывалась по ляжкам, бедрам, плечам, реакции тела вытесняли какие-либо иные. Женщины каменного века мурлыкали и льнули к мужчинам, мужчины — выставляли грудь и крепкие плечи. Сильные показывали силу, слабые — слабость. Спектакль демонстрировал все преимущества этюдного метода, ибо из этюдов (лирических, шумных, коллективных, индивидуальных) в основном и состоял.
Режиссерскую фантазию раскрепостили, во-первых, внешний историзм (весьма сомнительный), во-вторых, пластический язык, функции которого выполняли активные телесные вибрации. В-третьих, он занялся речью, коммуникативными способностями моральных недоумков, становлением языка дикого народа. И тут актеры ответили такими импровизациями на темы «моя твоя не понимай», что добираться до коренных вопросов бытия и нравственности было необязательно. Причем первобытное племя стало подозрительно похоже на обитателей клиники с серьезными отклонениями в мышлении и коммуникации, что вряд ли входило в замысел. В подобной яркой по палитре композиции есть где разгуляться — некоторые роли запоминаются (впрочем, не тем, что они хороши, а тем, что они вульгарны, физиологичны, поверхностны). Как известно, хорошие актеры везде таковы — Иван Маленьких в роли Главы племени сыграл-таки нечто ясное и необычное, своего рода Поводыря из метерлинковских «Слепых», отчаявшегося перевоспитать коллектив предателей и трусов. Отчаявшегося вернуть его к морально светлой заре человечества. Он печален и хитер, мудр и добродушен, он — отец, воспитатель, судия. Всему этому нашлось место в каменно-первобытном маскараде. Судя по этой роли для «Двух стрел» когда-нибудь и у кого-нибудь найдутся другие, более простые или менее театральные (как ни странно!) краски.
P. S. Каждый год на фестивале «Пять вечеров» идут одни и те же пьесы. Впечатление, будто ничего не меняется, — обманчиво. Ничто так сильно не проявляет перемены, как постоянство. Поэтому володинские посиделки и поединки не устаревают.
Февраль 2010 г.