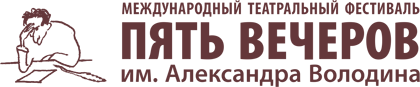Юрий strike™ Клавдиев
Развалины
всемирная рота одерживает
вновь очередные победы,
соблюдая лишь один закон —
кто сильнее, тот и прав!
Егор Летов
Мария Ильинична Развалина, 57 лет, крестьянка
Её дети:
Ваня, младший
Греня, средняя
Савоська, старший
Ираклий Александрович Ниверин, ровесник Развалиной, ленинградец
Анечка, его дочь, ровесница Грени
Ленинград, где-то на Васильевском острове. Декабрь. 1941 год.
1.
Лестничная клетка. Ниверин ковыряется в замке, повесив сумку с продуктами на крюк. На площадку поднимается Развалина. Она сперва взволакивает на ступеньку тяжёлые санки с бадьёй, полной воды, потом преодолевает эту ступеньку сама. Ниверин отчаянно пытается повернуть в замке застрявший ключ.
НИВЕРИН. Добрый вечер.
РАЗВАЛИНА. Вечер добрый. Что, не открывается?
НИВЕРИН. Именно что вот не открывается. Просто хоть что делай…
РАЗВАЛИНА. Дайте посмотрю. Ох… Сейчас я постою немного…
АНЕЧКА. (Из-за двери). Тётя Маша?
РАЗВАЛИНА. Здравствуй, Анечка.
АНЕЧКА. Здравствуйте. Опять ключ у папы застрял?
НИВЕРИН. Опять, Анечка. Прямо не знаю, как я его так умудрился…
РАЗВАЛИНА. Тут надо умудриться, что он вообще открывается у вас. Ираклий Саныч. Вы его, замок, я говорю, так расхлябали, что там таракан пролезть может, а не ключ. И ключ заедает в таком замке (усиленно поворачивает ключ)… на раз-два-трёханьки…
Никакого результата. Развалина немного потряхивает ключ в замке.
НИВЕРИН. Анечка, ты там, пожалуйста, отойди от двери, ладно?
РАЗВАЛИНА. Да вы не бойтесь, там ничо не выстрелит.
НИВЕРИН. Да там косяк может треснуть. Не дай бог, щепка отскочит.
Под руками Развалиной, жалобно тренькнув, ломается ключик в английском замке. Развалина некоторое время смотрит на головку ключа в своей руке.
РАЗВАЛИНА. Ну, заодно зато я вам уже и замок поменяю, правильно?
НИВЕРИН. Да, это судьба. Ну что ж… не надо было лениться, вы правы, Мария Ильинична. Что требуется от меня?
РАЗВАЛИНА. С Анечкой поговорите пока. А я сейчас воду занесу и инструменты возьму, я видела недавно там какие-то…
Развалина отпирает дверь в квартиру напротив и заталкивает туда санки с бадьёй.
РАЗВАЛИНА. А вы приходите, кстати, потом за водой . Я много набрала, постирать хочу.
НИВЕРИН. Обязательно, да… да… Анечка!
АНЕЧКА. Да, папа!
НИВЕРИН. Чем ты там занята?
АНЕЧКА. Наряжаю куклу!
НИВЕРИН. Какую?
АНЕЧКА. Куклу Валю!
НИВЕРИН. И во что ты её наряжаешь?
АНЕЧКА. Чего?
НИВЕРИН. Или в кого? Кем у тебя Валечка будет, когда ты закончишь её наряжать?
АНЕЧКА. Куклой, так и будет… я же её просто в другую одежду наряжаю, я же её не переделываю в крокодила… она как была куклой, так и останется, будет просто другая одежда…
В полуоткрытую дверь слышно, как Развалина гремит в квартире инструментами. Из-за двери выглядывает любопытная Греня.
ГРЕНЯ. Здравствуйте.
НИВЕРИН. Здравствуй, Греня.
ГРЕНЯ. Ключу хана, мама сказала.
НИВЕРИН. Точнее твоей мамы трудно выразиться…
АНЕЧКА. (Кричит из глубины квартиры). Папа, это Греня пришла?
НИВЕРИН. Да, это Греня пришла.
АНЕЧКА. (Кричит из глубины квартиры). И что она говорит?
ГРЕНЯ. (Кричит). Мама сказала, что вы сегодня у нас будете ночевать. Потому, что вашему замку хана вместе с ключами!
АНЕЧКА. Ааааа, будем опять под столом спать! Пошла кукол собирать!
По коридору – стук удаляющихся детских шагов. Ниверин садится у двери. Из квартиры напротив выходит Развалина, у неё в руках ручной коловорот, стамеска, молоток. Развалина становится на колени напротив двери, осматривает замок. Начинает вертеть вокруг него отверстия коловоротом. Её взгляд падает на сетку Ниверина с продуктами.
РАЗВАЛИНА. Гречу всё-таки дали?
НИВЕРИН. Дали. На третий день.
РАЗВАЛИНА. Зато дали.
НИВЕРИН. Всего на той неделе всё было нормально, как часы.
РАЗВАЛИНА. Так то на той.
НИВЕРИН. А после того обстрела, когда снаряд в пекарню попал – помните?
РАЗВАЛИНА. Помню. Там девочку убило, в очереди.
НИВЕРИН. Всё с того так и пошло. Греча – раз в три дня, и полхлеба теперь сами знаете, что.
Развалина с силой стучит между отверстиями стамеской. Замок выпадает. Дверь распахивается.
РАЗВАЛИНА. Какой у вас дух с квартиры нехороший, Ираклий Саныч. Хотите, я прибрала бы.
НИВЕРИН. Нет-нет, я сам. Я, в самом деле, запустил, тут вы правы… вроде кажется, знаете, что – зачем убирать, ты и дома-то не живёшь, а весь день лежишь, да на улицу выйдешь раза два – за хлебом, да за снегом…
РАЗВАЛИНА. А вы снег берёте! Ну, я ж вам говорила сто раз, Ираклий Саныч, не берите от парадного, там ссут и срут, кому не лень…
НИВЕРИН. Да кому ж сейчас… то, что вы говорите! Сейчас не то, чтобы… я видал вон в очереди, стоит и писает себе в валенки, дедушка…
Развалина, рассматривающая покорёженный и разболтанный замок, вынутый из двери Ниверина, вдруг смеётся.
НИВЕРИН. Помилуйте, Мария Ильинична… разве можно… я не к тому рассказал, чтобы вы посмеялись, а к тому, что жалко, же жалко!
РАЗВАЛИНА. А если и смешно и жалко, что ж, я меньше жалею, коль смеюсь?
НИВЕРИН. Я только к тому, что я-то тоже тут знаю… у нас чистый снег, и я ещё его через песок фильтрую. У нас пальма росла, так мы пальму-то съели давно, а я песок с камушками пересыпал в баночку, а дно отбил, и теперь там сверху наливать можно, и снизу капает чистенькая…
РАЗВАЛИНА. Учёный вы мужик, Ираклий Саныч, вон и радио сделали нам, а я с вас удивляюсь, что замок сделать сами не можете. Проводочки-то ваши посложнее, я чай?
НИВЕРИН. Проводочки посложнее, а замок похитрей меня, Мария Ильинична. Ну, как я понимаю, сегодня мы у вас с Анечкой?
РАЗВАЛИНА. Милости просим всегда. Уж мои так вашу Анечку любят.
НИВЕРИН. Я соберу её и приду.
РАЗВАЛИНА. Жду. А дверь я забью гвоздями на ночь, так что можете не волноваться.
НИВЕРИН. Да у нас и брать-то уже почти нечего. Вчера последнее блюдце фарфоровое отнёс.
РАЗВАЛИНА. Приходите.
Развалина уходит за гвоздями, Ниверин – за Анечкой, забыв сетку с продуктами. Некоторое время сетка висит одна. Потом в обоих квартирах, перебивая друг друга, начинают вещать репродукторы. Репродукторы говорят об артобстреле. Развалина, так и не успевшая раздеться, быстро выводит детей. Ниверин с Анечкой опаздывают, наконец, выходят.
РАЗВАЛИНА. Вы деток наших берите всех и спускайтесь. А мне тут два гвоздя вбить. И я тоже единым мигом до вас спущусь.
НИВЕРИН. Тогда в четвёртую позвоните, Тарасова проконтролируйте, чтобы спустился.
РАЗВАЛИНА. Всё, подите скоренько.
Дети Развалиной молча отправляются с Нивериным. Савоська тащит в свёртке большую пожарную машину.
АНЕЧКА. Молодец Савоська, будешь моих кукол катать.
ВАНЯ. Мама не разрешает игрушки брать с собой, тогда мы стали в игрушки докувменты класть. Мама велит брать с собой докувменты, потому что говорит, что это главное наше сокровище. Я её спрашивал, она сказала, что каждая бумажка больше сто питсят тыщ ей досталась.
ГРЕНЯ. Она сказала, что от этих бумажек всё зависит. Вот так она сказала. И мы тогда придумали класть в главные игрушки – в куклу говорящую, например. Или в пожарную машину. В такие игрушки, которых у нас никогда не было, и мы даже не знали, что такие есть. Потому что такие игрушки мы точно ни за что не потеряем.
АНЕЧКА. Вот, папа. А ты мне запрещаешь кукол брать с собой, потому, что забуду, а сам потерял тогда в бомбоубежище одеяло.
Воют снаряды. Ниверин с детьми останавливается перед тяжёлой дверью на улицу. На улице воют снаряды.
САВОСЬКА. Артобстрел хуже всего, потому что бомбометание разведка может предсказать, по движению самолётов и по типу, а артобстрел просто начинается и всё.
НИВЕРИН. Как чуть потише – выбегаем и бежим.
САВОСЬКА. Наоборот, надо бежать, пока слышно, потому что нас в основном дальнобойные пушки обстреливают, а у них снаряд превышает скорость звука в полёте. Он уже упал, а звук ещё идёт, поэтому слышно те снаряды, которые упали уже, а те, которые взрываются, от них звук не слышно.
За дверью взрывается шрапнельный снаряд. По двери сильно бьют осколки, но крепкое дореволюционное дерево выдерживает.
НИВЕРИН. Вот, видите, как раньше делали? Как знали, что всякое может случиться… новые двери бы насквозь просадило…
ГРЕНЯ. Потому что новые двери для новой жизни сделаны. А в новой жизни войны не должно быть. Там все равны.
НИВЕРИН. Ну-ка… приготовились, новая жизнь. От войны бегом-марш!
Ниверин и дети, дождавшись перерыва между залпами, бегут в бомбоубежище. Развалина вбивает в дверь ровными ударами два гвоздя и затыкает молоток за шпагат, которым повязан её ватник. Она стучит в квартиру номер четыре. Там никто не отвечает. Она стучит громче. Близкий вой снарядов накрывает ставшее вдруг крохотной кабинкой древнего лифта парадное. Развалина вжимается в дверь, колотит молотком в замок. Ещё более близкий вой и разрывы – один ближе другого.
2.1
Ниверин с детьми в бомбоубежище. Дети накрыты казёнными серыми верблюжьими одеялами. Ваня сидит на одеяле, которое взял для матери Савоська. Савоська катает на пожарной машине кукол Анечки и Грени. Анечка и Греня сидят вместе рядом с Ваней.
ВАНЯ. Суперпушки бьют. У немцев есть такие, «Большая Берта». Они старинные, там каменное ядро пять тонн весит, это как три полуторки пшеницы нагрузить, и ещё будет маленькая. Из камня. Они на кране ядро в пушку в эту кладут, и подзрывают порох, они пороха сначала насыпают, а потом заталкивают наших раненых и убитых, там такой бульдозер приезжает и толкает их в пушку комками, наших, беспомощных… и подзрывают, и снаряд летит, и как будто воет, и это души кричат тех, кого затолкали вот между порохом и снарядом.
НИВЕРИН. Откуда такие познания?
ГРЕНЯ. Это у нас бабушка говорила, ещё когда мы беженцами были.
НИВЕРИН. Да, были беженцы – стали ленинградцы. Вот такие военные подарки…
САВОСЬКА. Ираклий Саныч, а нам могут разрешить после войны навсегда остаться в Ленинграде?
НИВЕРИН. А тебе хочется?
САВОСЬКА. Очень. Я в Нахимовку хочу, на береговую артиллерию.
НИВЕРИН. У нас, Савос-паровоз, страна советская – где хочешь, там и живи. Если прописку получишь.
ГРЕНЯ. А у мамы пока нет прописки. Ей поэтому карточки не дают.
НИВЕРИН. Да, надо твою маму временно прописать.
САВОСЬКА. Вы уже давно так говорили уже.
НИ ВЕРИН. Так твоя мама должна сама перед этим у домкома на учёт взяться. Как же я неучётного человека пропишу. Мне по шапке дадут.
САВОСЬКА. Кто даст?
НИВЕРИН. Дядя Дзержинский даст. Знаешь такого?
САВОСЬКА. Ещё получше вашего известно. К нам каждое лето от него чекисты приезжают, сначала хлеб возили для советского государственного строя, теперь шпионов. У нас четыре шпиона поймали в тот год, а на это лето успели только три, а тут и война началась.
НИВЕРИН. И вы сразу сюда? Я слышал, мне мама твоя рассказывала…
ГРЕНЯ. Она так не могла рассказать. Мы потому что сначала просто так побежали, со всеми, на станцию, потому что там маме председатель сказал, эвакуационные поезда должны стоять…
Приближающиеся разрывы.
2.2
Развалина, на которую сыпется из-за разрывов штукатурка, колотит в дверь молотком. Дверь в квартиру четыре открывается. Замок вываливается из двери. Развалина попадает в идеально прибранное жилище бывшего конного комкора, а ныне инвалида Тарасова. Она переходит из комнаты в комнату, кажется, наступает тишина. Хотя квартира иногда подрагивает, колышутся кружевные скатёрки и покрывала на множестве столов и столиков, дребезжат дверцы многих шкафов с посудой и книгами. Постукивают фотографии на стенах, но всё равно – порядок и идеальная чистота побеждают войну, и Развалина идёт в тишине, разглядывая фото и репродукции на стенах, проводя рукою по растениям в горшках. Она идёт по коридору, в это время особенно сильный разрыв сталкивает вместе провода в распределительном щите, и какое-то мистическое, отсутствующее в реальности, скопившееся в сети электричество раскаляет проволоку в двух лампочках – в розовом и красном абажурах. Несколько мгновений Развалина видит полосатые обои коридора, две больших турецких сабли на стенах. Потом снова темно. Она входит в кабинет хозяина.
2.3
Сильный разрыв снаряда рядом. У детей Развалиной рушится крепость из пустых гильз, в которой Греня и Анечка были санитарками, Савоська – командиром береговой артиллерии, а Ваня – героем-рядовым, подносящим патроны.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ. Вот каждый раз сижу, и каждый раз спрашиваю – а что будет, если попадёт?
НИВЕРИН (Охотно поддерживая разговор). Вообще, когда они строились, там расчёт был ещё и на то, что противник захватит если наши орудия, и станет из них бить сюда, так чтобы выдержало. А так как наши орудия наиболее тяжёлые, то вряд ли. Нет.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ. Что – нет?
НИВЕРИН. В бомбоубежище, особенно в этом, бояться нечего. Можно прямо жить тут устраиваться. Это только если в город войдут, и то только огнемётом выжигать, через вентиляции бензином… а так – бесполезно, хоть весь день стреляй.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ. Если я её правильно поняла – золотое кольцо на три банки шпрот. Но, скупщик сказал, это должно быть кольцо, а у неё было не просто кольцо, а купеческое, тяжёлое, грамм в пятнадцать, наверное, или в двадцать даже – такое тяжёлое, толстое, там ещё старославянским что-то написано. И эта старушка упёрлась, и хочет за кольцо не меньше, чем мешок овсянки старыми мерами. Она как оттуда родилась. И может, и родилась, я не знаю. Но не меньше чем за мешок. И обязательно старыми мерами, да. И когда про неё такое узнали, к ней пришли с револьверами ночью три человека, снесли дверь, а никто того не знал, что она-то была оказывается не просто старушка, а долгосрочный красный агент под прикрытием, и она заперлась в комнате с внутренней телефонной линией и сливала весь разговор в телефонную трубку прямо на письменном столе, так что там всё до копейки записалось на плёнку, телефоны же все сейчас прослушиваются, и там сразу к ней послали отряд целый. Там ужас что творилось, мне сноха рассказывала, они в ванной заперлись, завалились подушками, всякой всячиной, и тряслись всю ночь. А там прямо война натуральная, стреляют, орут, тех-то обложили, они понимают, что их по-любому поубивают, так и так, и как пошли отстреливаться – и сами напролом. А те их через дверь из винтовок, а бабуля та неожиданно как взяла, да и сзади им то ли из мушкета, то ли там из пистоля – в общем, что-то старинное такое там у неё припрятано было, с царя Гороха ещё времён, стало быть. И я потом ходила смотреть – там в стенах дырки, как молотком кто-то бил, вот такие, с чашку хорошую чайную. И всё. Всех положили там же. А вы говорите, плохо, когда телефоны прослушиваются.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ. А то я бы так сделала, знаете что? Я бы и радио и телефон вместе бы составила. Хочешь – так телефон, а так кнопку другую нажал – и садись к нему радио слушать, по трубке. А так нечего ему галдеть. У меня от радио в том году кот сдох.
ВАНЯ. А у нас убежал. Нас когда в палатке поселили, самолёт прилетел и всех расстрелял из пулемётов. Мы под телегу побежали прятаться, и там от лошади, запряжённой в телегу прямо куски вот так из спины вверх полетели, она упала и ногами вот так мне прямо перед лицом… и я в этот момент прямо так вот лежу и вижу, как наш кот бежит…
ГРЕНЯ. Зигзагами.
ВАНЯ. Да, зигзагами, между выстрелов от пуль, и ни одна пуля в него не попала. Он прямо до леса добежал, там канава противопожарная, мне солдат сказал, и в ней люди прятались… Он по людям прыгнул, они, наверное, подумали в тот момент, когда он прыгал, что в них пули попали.
Ваня смеётся.
2.4
В квартире номер четыре, в кабинете конного комкора Тарасова, Развалина находит хлебные карточки на столе и тело мёртвого инвалида на диване. Она кладёт в карман карточки, накрывает инвалида простынёй, садится рядом с кожаным диваном и ждёт, пока кончится артобстрел, как будто квартира мертвеца защищена какой-то силой, будто смерть дважды уже не войдёт сюда. И смерть не входит, хотя шальной осколок разбивает стекло на кухне и падает в раковину. После этого – тихо, только тихо шипит остывающий металл осколка, а может, это Развалиной кажется, она смотрит вокруг, сидя у дивана, на котором лежит увешанный орденами мертвец, и думает о том, что она взяла его карточки, по которым ещё можно две недели получать хлеб, как будто бы она ухаживает за старым ветераном. По дороге проезжает машина с солдатами, артобстрел кончился. Громкоговоритель в кабинете громко оповещает о том, что угроза жизни миновала.
2.
В бомбоубежище Савоська прячет под рубаху одеяло, которое он получил для матери. Ниверин с детьми выходит из бомбоубежища, идёт через улицу, на которой дымится свежая воронка.
ВАНЯ. Греня, Анька, бежим смотреть!
НИВЕРИН. Никто никуда не бежит.
АНЕЧКА. Почему, пап? Может, я там найду кошелёк, который ты перед войной потерял?
НИВЕРИН. Во-первых, кошелька тут нет. Во-вторых, мы идём домой, там я сдам Греню, Ваню и Савоську маме их…
ГРЕНЯ. Кстати, она в бомбоубежище не пришла.
НИВЕРИН. Не успела, наверное, в подвале спряталась.
ГРЕНЯ. Мы всегда раньше в подвале прятались, пока вы нас не нашли, и не разрешили в той квартире жить.
САВОСЬКА. А там правда ваши знакомые живут, и они нас не убьют, если мы там что-нибудь сломаем?
НИВЕРИН. Да сто раз уже говорил. Там никто вас не убьёт. Просто аккуратнее будьте. А всё, что вы могли сломать, мы с вашей мамой давно ко мне в квартиру перетащили. У меня же одна комната свободная.
АНЕЧКА. Теперь и другая свободная. Мы в гостиной больше не живём, там холодно. Папа у меня в комнате живёт теперь, она маленькая, и печка у нас маленькая, она как раз может нагреть. И мало дров получается.
ВАНЯ. Мы тоже так сделали. Только мы большую заняли и разгородили. Теперь там в одной половине печка, и там кухня тоже, а в другой – красная половина, там мы спим и там мама Богу молится.
АНЕЧКА. А мне папа запрещает Богу молиться. У нас за это в тюрьму могут забрать, на всю жизнь. А в деревне могут за это в тюрьму забрать?
ГРЕНЯ. Нет, у нас церковь есть свободно, только туда только бабки ходят старые, остальным некогда. Мы все дома молимся. И поп иногда приходит, его угощают, он ест, потом тоже помолится, выпьет и уходит. У нас сажают за потраву посевов, в основном. За колоски раньше сажали, но нас ни разу не поймали.
САВОСЬКА. Меня фиг поймаешь, я специально с такой стороны подлезал…
Ниверин с детьми входит в подъезд. Развалина встречает его в парадной.
РАЗВАЛИНА. Здравствуйте, Ираклий Саныч… привели моих спиноедов?
НИВЕРИН. Мария Ильинична, вот. Ваши все, живы-здоровы. Сдаю под расписку.
РАЗВАЛИНА. А и сами к нам всё равно идите, потому что ваша дверь забита мной по самый по косяк. И вам хода никакого нет в квартиру.
НИВЕРИН. Анечка, сбылась твоя мечта. Мы идём в гости.
Все поднимаются по лестнице.
АНЕЧКА. Тоже мне мечта, у меня всего одна кукла с собой…
РАЗВАЛИНА. Ты, Анютка, не дуйся. Я сейчас твоему папе найду в инструментах замок висячий, да пару петелек попрочнее, и вам замок поменяю, возьмёшь кукол своих, и к нам по-новой придёшь.
АНЕЧКА. А вы быстро замок поменяете?
НИВЕРИН. Анечка, ну как вот так можно спрашивать?..
АНЕЧКА. Ну, а что? Ты мою дверцу у кукольного домика два месяца приделать не мог…
ВАНЯ. Меня бы попросила, я бы приделал в две секунды…
САВОСЬКА. А я бы в одну.
ГРЕНЯ. В одну секунду ничего нельзя сделать. Только можно сказать «четыреста один».
НИВЕРИН. Это ты где узнала?
ГРЕНЯ. Это я книжку в нашей квартире нашла, и читаю. Она про занимательную физику.
НИВЕРИН. Вот-вот, читай… дети, а хотите, я с вами школьные занятия буду проводить?
Греня радуется, Савоська и Ваня мотают головами, Анечка обречённо хватается за голову. Все входят в квартиру Развалиной.
РАЗВАЛИНА. Вот тут ноги вытирайте.
АНЕЧКА. А у нас папа никогда не вытирает.
НИВЕРИН. Аня, что у тебя за манеры? Не вытираю, потому, что нет необходимости. Надо просто пол мыть нам с тобой почаще.
АНЕЧКА. (Тщательно отшаркивает полусапожки на тряпице, постеленной в коридоре). Раньше можно было часто мыть, а теперь вот у меня лично сил нет.
РАЗВАЛИНА. Конечно, нету. Откуда они возьмутся, когда такой корм, правильно? Чтобы пол мыть, надо нормально кушать, Ираклий Саныч. А пока нет нормально покушать, надо ноги вытирать как следует.
АНЕЧКА. А я знаю, об чё мы ноги вытираем. Это полотенце раньше было, у тёти Лиды.
Пауза.
РАЗВАЛИНА. Да я искала тряпку какую-то, а тут всё новое, как с ярмарки только… что поплоше было, то и кинула.
НИВЕРИН. Да, он полгода только как въехал сюда, до войны… ничего, Мария Ильинична. Война – время не то, чтобы об полотенце плакать, правда же?
РАЗВАЛИНА. Вот ото ж и я так думаю.
Ниверин и Анечка разматываются, наконец, от своих платков и пальто, и проходят в разгороженную простынями на две половины гостиную, временно занимаемую семейством Развалиных. Греня с Савоськой аккуратно раздвигают простыни, открывая внутреннюю часть гостиной – кухню, с печкой-буржуйкой, к которой приделана длинная разнородная труба (вместе скреплены несколько разного цвета обрезков водосточных труб) выходящая в форточку. Окно наглухо забито фанерой, и с другой стороны прибита даже столешница. Возле печки – небольшая фигурная ванна для купания детей, два ведра. На подоконнике разложены кастрюли и разделочные доски. Ножи и ложки в маленькой цветочной вазе. Другая половина гостиной – стол, несколько стульев и маленький комод.
НИВЕРИН. А комода я у него не припомню.
РАЗВАЛИНА. А это тут рядом, из дома разбитого. Я иду, а он с окна высунулся, там, видать, как дало с той стороны, а сам без царапинки. Я детей позвала, мы и притащили, я подумала, что лучше пусть наш будет, а то тут если освобождать, то надо складывать куда-то, а вдруг пропадёт…
НИВЕРИН. А та квартира? От неё что-то осталось?
САВОСЬКА. Это я тот комод нашёл. Там от всего дома ничего не осталось, одни стенки. Это коробка называется, это знаете, чем попадает, когда такая коробка остаётся? Это из мортиры попало, она сверху вниз навешивает, такие раньше для разрушения крепостей применяли, чтобы через стены не пробиваться, а сверху сразу в городе дома рушить. Такая сразу, если в дом попадает, рушит с крыши до подвала. И в том доме так и было. Там только обои на стенках остались, и то обгорелые. Мы бы отодрали, если бы годные были.
НИВЕРИН. (Больше машинально). Зачем отдирать?
САВОСЬКА. Так на рынке можно сбанчить. Или просто сдать, как картон.
НИВЕРИН. А зачем вы сдаёте картон?
САВОСЬКА. Вы, дяденька Ираклий Саныч, сколько времени тут живёте?
НИВЕРИН. Всю жизнь. Я, мил мой госыдарь, тут родился.
САВОСЬКА. Я государем не могу стать, я крестьянского звания. А картон у вас в соседнем дворе принимают. По пять копеек за кило у весовщика получаешь, и дальше свободен.
НИВЕРИН. Дальше… что дальше?
ГРЕНЯ. Дальше свободен. Это весовщик говорит, когда деньги выдаёт.
САВОСЬКА. Давайте вместе собирать, если вы места знаете, Ираклий Саныч! Вы же тут выросли, вы же тут всё должны знать… А я секрету вас научу: знаете, как картона чтобы больше казалось? Можно камней внутрь напихать, но тут весовщик уже наловчился против нас, он малыми порциями на весы носит, и камни вытряхаются. И я теперь знаете, что делать стал?
НИВЕРИН. Что же?
САВОСЬКА. А ничего, я теперь просто мокрые листы в серёдку сую, оно и почижелело! А он носит и не понимает пока! Вот, я вам сказал, теперь покажете мне, где можно собрать?
НИВЕРИН. Возле школы нашей, наверное… там всегда полно было коробок всяких, обёрточной такой… такие листы.
САВОСЬКА. О, вот это вы мне подсказали хорошо! Картонные коробки – самые тяжёлые.
Развалина, перебиравшая всё это время замки и металлические инструменты в слесарном ящичке-переноске, выбирает пару уголков с отверстиями и большой навесной замок.
РАЗВАЛИНА. Смотрите, какого красавца вам посажу! Гранатой не сорвёшь!
НИВЕРИН. (Смущённо представляя себе такой замок на своей двери и не сомневающийся – именно такому там и быть, потому что вставить нормальный замок в дверь сам он не сможет). Ну, до гранат главное чтобы не дошло, а так – вполне милый, да, Анечка?
АНЕЧКА. Такой только на подземельях вешают, в сказках. Когда принцесс похищают.
НИВЕРИН. Ну уж пока пусть такой повисит, а там я посмотрю, как наш был вставлен, и другой такой же поставлю.
АНЕЧКА. Понятно, я уже вырасту.
Развалина и Ниверин смеются.
РАЗВАЛИНА. Пойдёмте посадим, замок-то. Греня, затопи печку давай, сегодня стираться будем.
НИВЕРОВ. Как раз хотел спросить – как у вас сил хватает на такое?
РАЗВАЛИНА. А чего ж тут хватать – не хватать? Раз в неделю постираться как утром-вечером помолиться.
НИВЕРОВ. Да-да, вот я тоже, знаете, вопрос молитвы – он такой важный… как раз хотел поинтересоваться… вот про молитву… тут как у вас – вы просто привыкли, или вы в самом деле…
3.1
У печки Греня натёсывает большим ножом щепу для растопки. Анечка следит за ней, сидя на корточках возле плиты.
АНЕЧКА. А можно я пока деревяшки положу?
ГРЕНЯ. Бери те, что с той стороны от тебя, не там, где кочерга, а с другой. Там сухие совсем лежат.
АНЕЧКА. Эта сторона «слева» называется.
ГРЕНЯ. Всё время никак не запомню…
АНЕЧКА. А про «четыреста один» запомнила.
ГРЕНЯ. Почему-то запомнила. Савоська!
Савоська, ушедший с Ваней в другую комнату, отзывается из-за стены.
САВОСЬКА. Чё надо?
ГРЕНЯ. Дай спички.
САВОСЬКА. А свои куда дела?
ГРЕНЯ. Свои у меня мама забрала.
САВОСЬКА. Вот у неё и проси. А мои при мне останутся.
ГРЕНЯ. А я вот маме скажу, на что тебе спички, у тебя ни спичек не останется, ни жопы!
АНЕЧКА. Греня, ты не должна так говорить. За слово «жопа» мама и тебя может наказать.
ГРЕНЯ. Савоська, заманал жопиться. Давай спики, а то костриво распалить нечем, матуха подмакуток натыкает!
САВОСЬКА. А нефига было с моими спиками перед матухой пропаляться, щас бы сама спокойно поджогла!
АНЕЧКА. Греня, Савос, вы друг друга понимаете вообще, что вы как звери разговариваете, надо правильно!
САВОСЬКА. Как по-вашему, что ли, правильно, по-городскому только?!
АНЕЧКА. Конечно. Потому, что говорить надо так, чтобы все тебя понимали.
Забирает у Савоськи спички из протянутой руки, чиркает, поджигает пучок Грениных щепок. Греня суёт щепки в печку, закрывает дверцу. Из комнаты идёт и присоединяется к детям Ваня.
ВАНЯ. Чем докажешь, что город важнее деревни?
АНЕЧКА. Ну, во-первых, одинаково говорить правильно. В каждой деревне своё наречие, свой говор, от этого все разобщены и договориться не могут, все только друг над другом ржут и бесят. А города все давно договорились, и ты можешь в какой хочешь приезжать, там все одинаково говорят.
САВОСЬКА. А вот и нет, мой батя, пока ещё на фронт не ушёл, съездил один раз куда-то в Хохляндию, он сказал. Его оттуда чуть живого привезли земляки – а говорил, что били его как раз потому, что он не говорил так, как в том городе.
ВАНЯ. И война из-за городов пошла. Деревенские если кто не прав, никогда войной не идут, у них нет ни танков, ни штурмовой авиации, ни диверсантов. Деревенские только просто выйдут иногда за деревню, и сразу все подерутся, от начала и до конца.
АНЕЧКА. Дикость какая – драться!
САВОСЬКА. Зато мы подерёмся один раз, и войны нету. А тут вон сколько времени…
АНЕЧКА. Так ведь то деревня, а тут целая страна на другую напала. Много народу подраться хочет. Когда все подерутся по разу, тогда и война кончится.
ГРЕНЯ. Если бы с войны тех отпускали, кто по разу подрался, наш папка бы дома давно был бы. Он знаешь, сколько навоевал?
ВАНЯ. Папка самый первый на войну уехал.
САВОСЬКА. Сначала он, потом брат наш самый старший, он отдельно жил уже. Потом средний наш брат, потом старшая сестра.
ГРЕНЯ. Они в один день. А младшего, Алёшку, мама сначала прятать хотела, а ей батюшка отсоветовал. Сказал, будет прятать если – её посадят, а нас заживо ироды постреляют из пулемётов.
АНЕЧКА. Ироды? Это кто?
САВОСЬКА. Ироды тоже из города. Они на машинах приезжают и забирают всех, кто против советской власти. В основном евреев и немцев.
АНЕЧКА. А сколько вас в семье всего?
3.2
Развалина и Ниверин приколачивают к дверям петли для нового замка. Приколачивает Развалина, Ниверин вертит в руках большой замок и развлекает её разговором.
НИВЕРИН. А давно хотел спросить вас, Мария Ильинична – а сколько вас в семье всего?
РАЗВАЛИНА. Дайте, сочту. Эти трое остались, а ещё у них три брата их старше, да сестра есть старшая.
НИВЕРИН. Вот это семья! Да вам орден надо дать, мать-героиня!
РАЗВАЛИНА. Да ну, скажете! Это у нас на всех орденов не напасёшься, за детей давать! Тут дело-то немудрёное, не аэроплан сочинить… да и не все те мои, кто со мной. Там только Савоська мой и есть. Гренька внучка моя, получается, дочкина дочка, а Ванька – старшего моего сын, так что я бабушка, два раза уже успела, получается.
НИВЕРИН. А они-то, ваши все, с мужем – на войне, получается?
РАЗВАЛИНА. А где ж им ещё быть? Сразу вслед за родителем, все и пошли, кто через неделю – повестка пришла, а Любка сама вызвалась, малого мне спихнула, да в медсестрички… я только опомнилась, а она уже и курсы в городе закончила, только её и видели…
НИВЕРИН. Ну, зато свой долг исполняет… то есть у вас вся семья…
РАЗВАЛИНА. Дубари у меня вся семья, прости Господи. И сами вовремя не подсуетились. Можно было и справку взять мне, что инвалидность, тогда бы хоть одного старшего мне оставили, хоть бы и младшего – заместо кормильца при малятах да при мне, если бы на инвалидность подала вовремя. Долг… мы им колхозу ихнюю строили, строили, аж пуп чуть не порвали, недоедали, а как только отдыхать народу – тут и война, здрасте-пожалуйста. Я вот лично никому не должна. У меня всё своё было, а теперь Христа ради побираюсь хожу по городу этому.
Широкими ударами молотка Развалина приколачивает последнюю петлю к косяку. Берёт у Ниверина из рук замок.
РАЗВАЛИНА. Вот такая история нашей семьи. Пятеро детей у меня, четверо на фронте, пятый вот, сбоку телепается. Ладно маленький, а то б и его отобрали. Война, я понимаю, дело серьёзное. А только вот, знаете, Ираклий Саныч? Нам что мир ихний, что война – одно и то же. До войны – которого первого грабили? Нашего, крестьянского. И то же самое было – или эти тебя расстреляют, что ты у деточек своих куска не оторвал, не отдал, или те ночью придут да порежут, потому что у твоей хаты днём комиссара видели. Сейчас война. Которого в войну первого грабят? Нашего, крестьянского. И что ему делать, когда из-под него последнее увозят, а потом или эти в лагерь посадят, или те повесят, потому что у тебя брат в Красной Армии? А у нас так вышло, что которые не в тюрьме, то только за Красную Армию, потому что не было же у нас другой армии…
Пауза.
РАЗВАЛИНА. Ладно. Пойду я. Вы открывать-закрывать попробуйте, да приходите тоже. Вместе ведь как-то…
НИВЕРИН. Как, Мария Ильинична?
РАЗВАЛИНА. Да как не война прямо… хорошо как-то… сядем чай пить…
НИВЕРИН. Да ведь чая-то нет.
РАЗВАЛИНА. А вы приходите. Я вас удивлю.
НИВЕРИН. (Кричит Анечке вглубь квартиры). Анечка! Пойдём, дочка!
АНЕЧКА. (Кричит из глубины квартиры). Пап! Я заворачиваю дочке Вари сменную обувь! Скоро приду!
РАЗВАЛИНА. (Шёпотом). Варя – это кто?
НИВЕРИН. (Шёпотом). Варя – это её старшая кукла.
РАЗВАЛИНА. Понятно. Ну, мы вас ждём.
Уходят каждый в свою квартиру. Тихо, только стучит метроном в динамике на стене парадного.
3.
Квартира Развалиных. Развалина, Савоська, Греня, Ваня, Ниверин и Анечка сидят за большим столом. Тихо. Тикают большие часы на стене. На столе – большой чайник с кипятком, обёрнутый разрезанным вдоль валенком, маленькое блюдечко с сухариками. Время от времени кто-нибудь из детей тянется к блюдечку и берёт сухарик – но редко.
НИВЕРИН. Вы просто кладезь премудростей, Мария Ильинична. Вон как чайник обернули. А мы с Анечкой постоянно разогреваем.
ВАНЯ. Нам мама часто не велит разогревать – надо дрова экономить.
САВОСЬКА. А чего их экономить – в соседнем дворе в детский сад бомба попала, там куча стульев сломанных и даже рояльня есть, я разведал уже давно.
АНЕЧКА. Надо говорить – рояль. Понял?
ВАНЯ. Пусть говорит. Как правильно говорить – скучно. А как он – веселее.
ГРЕНЯ. Надо не как весело, а как надо.
САВОСЬКА. Мама, скажи ей, а? Сейчас война, надо, чтоб бодрость духа, так по радио говорили. А смех – это присутствие духа как раз, поэтому надо, чтобы ржачно было.
Ниверин морщится.
НИВЕРИН. Позволите мне, Мария Ильинична?
Развалина рассеянно кивает, глядя в пространство.
НИВЕРИН. Значит, так, дети. Давайте-ка, не откладывая, проведём сейчас первый урок. Называется – «культура речи».
САВОСЬКА. А зачем нам культура речи?
АНЕЧКА. Я тебе уже говорила – чтобы ты говорил, как следует, а не как ты время от времени ляпешнь, как орангутан – ничего не понятно.
НИВЕРИН. Вы теперь – ленинградцы, и на вас лежит огромная ответственность.
САВОСЬКА. Я нигде не расписывался, если что.
ВАНЯ. Это, наверное, оттого, что ты пишешь слабо.
Савоська даёт Ване леща. Развалина бьёт Савоську полотенцем по шее.
РАЗВАЛИНА. А ну-ка! Щас живо вылетишь! Тебя учут, а ты брыкаисси…
НИВЕРИН. А вот насилие ни к чему, Мария Ильинична.
РАЗВАЛИНА. Городским-то, может и ни к чему. А нашего, крестьянского, только так и можно научить. Богу молиться учат – и то, нет, да и шлёпнут, чтоб учил скореича.
НИВЕРИН. Шлёпать больше нельзя, это не влияет на усваиваемость материала.
РАЗВАЛИНА. А так оне больно усвоили у вас, я скажу. Они што так, што эдак… Только вот десять лет назад воевали – айда пошёл по новой. Али мало немчуре этой вашей проклятой по сусалам нарезали ещё в Первую мировую? Нет, опять вся как есть тута снова. Врагов мало вывезли по тридцатым по годам? Я как у вас в Ленинграде не знаю, а у нас семь хуторов свезли, зажиточных, нет – опять иду, читаю – «враг не дремлет». Они откуда наползли опять? Што совой об пень, што пнём об сову…
НИВЕРИН. Это всё так, Мария Ильинична. Но вы всё-таки попробуйте хоть день их не шлёпать. Можно вместо этого поиграть с самой собой, вот знаете? Сколько вы подберёте слов нежных для них, никогда не задумывались? И сразу начнут проявляться такие, знаете, скрытые детали характера, о которых вы и не задумывались.
РАЗВАЛИНА. Ой, вы так всегда придумаете смешно, Ираклий Саныч, вот я вам всегда удивляюсь. Удивляюсь, и всё. Я если игры играть сяду, у меня они всю квартиру вашу по кирпичикам вверх попкой поставят. А потом Христа ради по дорогам с сумкой пойдут, пока не сдохнут. А нежные их скрытые детали я и сама знаю. Вон тот (кивает на Ваню), даром что молчун, а серьёзный товарищ. Вчера его еле ухватила – нацелился… вместе с какими-то беспризорниками ехать в лес какой-то чёрт-те куда грибы копать.
ВАНЯ. Грибы и мины старые. Мины потом сапёрам продать можно. Они тушёнки дадут, правда, сначала за уши потянут, чтоб не таскал неразорвавшиеся.
РАЗВАЛИНА. Понятно, Ираклий Саныч? (Треплет Ваню по волосам). Неразорвавшийся… Тот вон (Савоська) каждую неделю к солдатам сбежать думает. Он мечтает, что он как только туда попадёт, сразу и герой, и комиссар станет.
САВОСЬКА. А что, не стану, что ли? Что там становиться-то. Сáмоль из винтовки сбить – да я хоть сейчас…
АНЯ. Ты из винтовки не попадёшь.
САВОСЬКА. Это почему это?
ГРЕНЯ. Потому что ты физики не знаешь.
САВОСЬКА. А ты знаешь?
ГРЕНЯ. А я знаю.
САВОСЬКА. Зато ты винтовку не поднимешь.
РАЗВАЛИНА. Я сейчас подниму винтовку вот! По жопе!
НИВЕРИН. А кстати о физике…
Ниверин углубляется в объяснение какой-то физической задачи, достаёт из кармана записную книжку, что-то чертит карандашом, показывает. Развалина смотрит в заколоченное окно.
РАЗВАЛИНА. А кстати о физике… у нас учитель был, он же агроном главный, приехал – у нас поселялся. Бедноте, которая вступила в колхоз, помогать приехал. Всё посчитал на счётах, по таблицам проверил, где что поставить, куда насыпать азот, куда фосфор. Ночами не спал. Помнишь его, Греня?
ГРЕНЯ. Помню. Я ему лучину помогала щепить, для того, чтоб он ночью читал.
РАЗВАЛИНА. Ото ж. Сидит и читает. И курит, а я ночью встаю – а он на иконы крестится. И тут голод. Не помогла наука, значит. Ни фосфор, ни азот. Только речку засрали всю. Там рыба повсплыла вся весной, и всё. И даже рыбалки нет никакой. Так у нас Семён Иваныч ходил хоть иногда, приносил, да и уха, а тут она воняет вся. И всё, а откуда новая народиться?
ГРЕНЯ. Он у нас школу вёл.
РАЗВАЛИНА. Вот он школу вёл у них, я что про физику-то. Он и в клубе лекции читал, кто постарше ходили, говорили – про химию и про планеты. Вроде гадания, или как там – так же не поймёшь. И вот вся химия его, в речке у нас. А вся агрономия, что еле-еле треть от обязательного фонда семян, и ту сожрали за зиму. А как весна пришла… ты помнишь, Савоська, Дементия пизданутого, простите Господи, Ираклий Саныч…
САВОСЬКА. Помню. Он, Ираклий Саныч, уверовал, что Карл Маркс и Ленин сказали всем умирать. Он какую-то песню пел, про все как один умрём…
ВАНЯ. Смело мы в бой пойдём сначала…
САВОСЬКА. Ага, и все прятались от него, а он топором в двери ломился и убивал, и так Санька зарубал вместе с мамкой, и их отца, а потом люди его там же в том доме закрыли и во имя святого Георгия сожгли. Батюшка его покрестил, и первый поджигал, я видел.
НИВЕРИН. Господи…
РАЗВАЛИНА. Агааа. А мужики-то пришли к агроному тому, говорят, пошли. Делай нам урожай давай, тебя же из Москвы прислали, или откуда ты там. Делай, не ссы. Мы тебя, сказали, не будем убивать. На что оно нам? Правильно?
НИВЕРИН. Господи Боже ты мой… правильно, конечно. И так уже вон…
РАЗВАЛИНА. И он снова за карты, за таблицы, посчитал обратно, написал бумагу в город, нам бесплатно дали фосфор в кредит у государства, азот по-новой выдали, они всё сделали, на второй год – опять неурожай. А в речке даже жабы повывелись.
ВАНЯ. Мы тогда всей семьёй сплотились, я помню. Папа мой к мамке переехал жить, Гренина мама, моя тётя, тоже переехали…
РАЗВАЛИНА. Сплотились… Тогда все посплачивались. Беднота вообще в коммунию сплотилась, в коровнике, пока коровы все подохли, и потом тоже там жили, которые осталися. А агронома со всей его физикой мужики в сентябре в лес увели и вилами ухандокали. И там закопали, или на волков оставили, я не знаю. Сентябрь, а как в июле тогда было. В Москве даже какую-то температурную рекорду побили, по радио нам говорили. Нам только его и слышно было, что радио одно.
Метроном.
РАЗВАЛИНА. Я с ними так и не согласная, как была, так и остаюсь. Может, надо было его слушаться? Потому что так хоть делом заняты были. Беднота та ковырялась сначала, с песнями, то в лес, то лебеду драть по деревне, а там каждый у своего дома уже надрал давно, да засолил, да приготовились все давно. А потом двоих их, коммунячьих, поймали, они грабить ночью пошли, и забили насмерть, в овраг покидали. А все ж знали, что у той коммунии семьи с детьми, а кормить их надо, и только поэтому они и пошли. Но ведь и так же не отдал бы никто…
НИВЕРИН. Что вы говорите! Никто бы не отдал?
РАЗВАЛИНА. А ты отдашь, вон у тебя (кивает на Анечку) глаза напротив?
НИВЕРИН. Ну, знаете… если так ставить вопрос…
РАЗВАЛИНА. А его никак никто не ставил тебе, вопрос. Он и так есть, вопрос. Вон оно, сидит. Ты – его ангел-проводник, ты его на свет произвёл, ты ему перед Богом ответчик. Которые там голодные – этих просто жалко. И там – это тебе не тут, в Ленинграде. В магазин не сходишь.
НИВЕРИН. Да и сейчас, знаете, не особо и сходишь.
РАЗВАЛИНА. Вот сейчас, придут – отдадите?
НИВЕРИН. Вы знаете, наверное, всё-таки отдам. Потому, что у меня есть, а у него – у него ведь совсем нет.
РАЗВАЛИНА. А вам её кто-то дал?
НИВЕРИН. Ну, если так, то – в какой-то степени – да. Я же её купил.
РАЗВАЛИНА. Вот именно. Купили. Не Христа ради выпросили, а потратили время на то, чтобы что-то сделать, что позволило вам, в итоге всего на свете, заплатить за курицу, когда она стала вам нужна, чтобы стрескать. Именно в этом вся разница. Вы работали, чтобы это получить. А те – просят, и чтобы дано было им. Вот тогда я главную неточность в Писании и поняла. Просить – значит грех совершать, вот поэтому просящие Христа ради вечно грешны.
НИВЕРИН. Вот это да…
РАЗВАЛИНА. А тех поубивали, в овраг скинули, и коммуния стала только петь, ихняя, с того времени.
ВАНЯ. Изнутри закрылись и пели. Про них говорили, что они на коровьих шкурах гадали, и там вышло, что больше никогда ничего не родится, а на третий год из земли полезут серпы с молотами, это Бог будет так Землю Мужицкую вооружать, и тогда мертвецы поберут все эти серпы да молоты, и царь Николай воскреснет, и поженится с Принцессой Магурой, и поведёт всех в точно последний решительный бой, и все песни большевиков сбудутся, потому и песни у большевиков только про бой, да про неминучую общую гибель, и Ленину тогда обязательно конец, а они поэтому песнями его силу поддерживают, в вечной борьбе за светлое будущее своих мертвецов, социалистических героев борьбы…
РАЗВАЛИНА. Борьбы, ага. И какая твоя борьба будет за жизнь, если ты последнюю курицу отдашь на Христа ради, которых всё равно не накормишь, их там не один, их куча же всегда. Христа ради просить – не землю пахать, их же всегда больше. И им твоя курица – на один зубок. А ты с деткой неделю, на ней протянешь…
НИВЕРИН. Двоим, знаете, можно две недели протянуть. Бульон можно в кружке варить – там по полкусочка на день, а он питательный очень…
РАЗВАЛИНА. Это я на своих поделила…
Пауза.
РАЗВАЛИНА. И потом их всё тише стало слышно, а потом и совсем не слышно. То ли они боялись из сарая выходить из своего, то ли стыдно было, но по ночам всё равно пропадало. На них думали, хотя тащил-то, может, и свой – откуда там им из коровника видать, где что лежить, правильно?
НИВЕРИН. Наверное, правильно…
РАЗВАЛИНА. А потом вот – и совсем не слышно. Первым Малышок пошёл, Филиппов Маканя, так все звали, потому что хлеб в водку макал и так ел – у него самая большая семья была, он самый неимущий у нас пришёлся. Он поэтому и ходил по деревне и вообще везде шнырял – кому чего подсобить за полкружки опилок.
НИВЕРИН. За полкружки… опилок?
РАЗВАЛИНА. За малость, я говорю. А кому чего подсоблять – все еле ходят. Никто ничего и не делает. Всё сначала говорили, ждали, что из города подвезут – не привезли. Так и я думаю – а откуда там, в городе, что возьмётся, раз у деревни не стало? Вот и то оно и есть, что нечего никому есть. И он их нашёл первый самый, с утра. Я тоже это, вышла, думаю, мож до лесу дойду, чего подыму, тот лес уже, я вам скажу, вычистили все по три раза, а всегда что-то оставалося. И я иду, и он идёт, чего-то в кошму завернул. Я говорю – чего поймал-то, Макань? Зайца, что ль? А он мне смеётся и говорит – зайца, зайца. Зайца нового мира, говорит. И смеётся вот так, зубами одними. Там, говорит, скажи батюшке, что все померли, кто последние оставались, в коммунии…
НИВЕРИН. Вот так… новый мир…
РАЗВАЛИНА. Да новый не новый, а их там всё равно некому жить оставалося. Вот и так. Кто там оставался? Дети да бабы? Их после ночных таких ворований на порог никто не пустил бы. И всё… а ихним мужикам наши мужики сказали не появляться больше.
НИВЕРИН. Но как же я всегда думал, что на деревне всегда друг за друга…
РАЗВАЛИНА. Это когда на другую деревню мужики пойдут биться, тогда они друг за друга, а как же… или когда водки выпить. Это тогда они знаешь, как друг за друга? А тут всё вспоминается. А та вон у меня мужика увела, когда мне девятнадцать было, на танцульках когда-то… а тот меня в город на общественные закупки не пустил, на сходе проголосовал не так, или вовсе не проголосовал. А тот буровёрт не вернул. А тех куры наших свиней далеко послали… и всё. И сразу всё вспоминается. Тут-то, небось, тоже, как война началась — не все смело мы в бой пошли есть которые?
НИВЕРИН. Нет, у нас все. У нас как один, вы знаете… и я всегда помогал, и сейчас… вот надо бы проверить Тарасова… мы же соседи, да что там соседи, мы – люди в первую очередь!
РАЗВАЛИНА. Когда квартира отдельная, можно и человеком быть. А крестьянин в полшага от леса живёт, и у нас «человек человеку – волк», это не поговорка, а жизненный факт настоящий.
Ваня засыпает за столом.
РАЗВАЛИНА. Ладно, потом доскажу, может быть. Там интересная история, я не знаю, у вас в газетах писали, иль нет…
НИВЕРИН. Наверное, да. А сейчас уже поздно. Анечка, пойдём?
АНЕЧКА. Пап, а я знаешь, что подумала?
НИВЕРИН. Что?
АНЕЧКА. А как мы станем теперь дверь закрывать, когда мы дома?
НИВЕРИН. А зачем нам её закрывать, когда мы дома?
РАЗВАЛИНА. А вот это-то я и не подумала… и правда, как же мы дверь-то…
Развалина начинает смеяться. Вместе с ней смеётся и Ниверин.
РАЗВАЛИНА. Знаете что? Оставайтесь ночевать, а завтра я вам крюк из полоски согну, и прибью с той стороны. Это лучше всяких запоров ваших будет. Хотите же?
АНЕЧКА. Папа, папа! Крюк на дверь, как в сказке!
НИВЕРИН. Да уж… сказка за сказкой…
ВАНЯ. Давайте, дядя Ираклий Саныч, оставайтесь. Мы тут знаете, как надышим ночью – как летом будет. А вы там много разве сможете надышать, раз вы просто старик да девочка маленькая…
Ниверин смеётся, прикрыв рот рукой и качая головою. Развалина даёт ложкой по лбу Ване, и ещё его пинает под столом Анечка, обидевшаяся на «маленькую девочку».
АНЕЧКА. Папа, ну. А может и можно? А то я бандитов воображаемых могу так испугаться, что описиюсь. А простынь стирать – это надо много воды тащить.
НИВЕРИН. Если так обстоят дела, то – я не возражаю. Только – мы вас не стесним, Мария Ильинична?
РАЗВАЛИНА. Нисколечко не стесните, а крюк я вам завтра согну. Что тут стеснять – тут ещё плясать можно… И заодно несите ваше бельё, которое есть – я со своим замочу и в пару заходов постираю.
НИВЕРИН. Ну, я прямо не знаю… Мария Ильинична… надо будет вам как-нибудь отплатить…
4.1
Они начинают готовиться спать. Мальчики помогают Развалиной сдвинуть лавки, Ниверин и Анечка приносят своё бельё, Анечка умывается и чистит зубы перед сном. Рядом стоит Греня.
ГРЕНЯ. А потом я после тебя. А эти пусть как хотят.
Ваня решительно подходит к девочкам.
ВАНЯ. Савоська! В «Помощнике партизана и разведчика» что написано? Иди сюда быстро!
Савоська нехотя становится в очередь. Аня полощет рот и передаёт зубную щётку Грене.
АНЕЧКА. На, Греня. (Савоське). А у нас в школе если мальчики зубы не чистят, их дежурные мыть класс могут заставить, если до пять минусов наберётся.
САВОСЬКА. Это каких минусов наберётся?
АНЕЧКА. Вот так, всё просто – у меня есть специальная книжечка и в ней – фамилии всех участников класса, я напротив каждой фамилии выставляю минусы, если руки не чистые, или зубы не чистил, или ногти если кривые и грязные. И если у кого набирается пять минусов, то я имею право учительнице сказать, и она поставит тебя на следующей неделе пол мыть.
САВОСЬКА. Ну и пусть ставит, это же на следующей неделе. А на этой я буду, что хочу делать. У нас знаешь, сколько всего после кулаков осталось? До сих пор сундуки находят, а в них – пулемёты и гранаты. Их и с нечищеными зубам искать можно.
ГРЕНЯ. Вот и будешь всю жизнь, неуч, по помойкам шариться. А умный человек научится в школе и возьмет, да и выдумает себе металлоискатель, и пойдёт и больше тебя найдёт в сто раз, а ты и обращаться с ним не умеешь?
САВОСЬКА. Я у него отниму, а ему по хлебалу настукаю – он мне всё сам расскажет.
АНЕЧКА. И чем ты тогда лучше фашиста?
Савоська некоторое время смотрит на Анечку, а потом плюётся зубным порошком в Греню.
ГРЕНЯ. Ма-маааа! А чё он?!
4.2
Ниверин сидит у большого корыта с бельём. За его спиной – большой настенный календарь с нарисованным торжествующе устанавливающим красный флаг на вершине альпинистом. Развалина сваливает бельё в большое эмалированное корыто.
НИВЕРИН. И всё же, можно я вернусь к тому случаю, с коммуной?
РАЗВАЛИНА. А чего ж нельзя. Померли они все. Матки лежат с детьми, старухи поближе к дверям. И единственно только мне покоя не даёт – кого Маканя в рогоже нёс оттуда?
НИВЕРИН. А что, вы думаете?
РАЗВАЛИНА. Детей-то не считал никто и не проверял – где чьё. Так вместе всех в овраг положили и хворосту сверху навалили просто, да и подожгли. Батюшка их окрестил наш и первый поджёг.
НИВЕРИН. Боже ты мой, вот это победа строя… вот это безоговорочно, я считаю…
РАЗВАЛИНА. Так то ж, я считаю, просто неурожай. А может – из-за фосфора. Хотя потом сыпали — ничего, росло всё. И речку прочистила говнососка из города.
НИВЕРИН. Так вы же чуть не погибли…
РАЗВАЛИНА. А мы и погибли. Кочуровки нет больше, сначала хотели нас к новому центру всех приписать и сплотить, как мой вон выражается, три деревни в одну. Никонову Гать и Потáсовку так и сплотили, а у нас рядом воинскую часть построили, и офицеров наехали с семьями, а их селить негде, так им у нас дома выделили. Так что офицерам наш голод как раз пришёлся. Они навсегда и остались. И теперь мы Кóтино прозываемся, чёрт его знает, почему, так и на картах пишут.
НИВЕРИН. Выходит, армия вас спасла? В кои-то веки от них хоть хорошее дело… не считая сейчас, конечно.
Развалина начинает стирать.
РАЗВАЛИНА. Нет, ну вы такой смешной, Ираклий Саныч, просто как эти, по радио! Они-то спасли, так из-за их военной части нас первых и бомбить стали! И никакой нам эвакуации не досталося, потому что у нас кроме офицеров – четыре хозяйства, кто их станет вывозить…
НИВЕРИН. А нам говорили, что эвакуируют всех…
РАЗВАЛИНА. Всех, да не этих, и не тех… кто поумнее – как только по радио услышал про войну, к председателю пошли, говорят – отдавай документы, в город пойдём, к вам, стало быть, прятаться. Председатель сначала тык-мык, ему тоже не надо оно – их поймают с паспортами, станут его рвать, за панику в селе, а какая паника, если фашист, гадюка, без всякой паники раз – и в Киеве уже! А по радио каждый день всё краше да краше новости – там котёл, там окружили, там разгром… Тут не паника, и просто живота ради не так завеешься…
НИВЕРИН. Но ведь они обязаны были, понимаете? Это же сотни людей, и выше и выше?! Вы думаете, что Сталин с Жуковым сейчас, и с Ворошиловым тогда, и с товарищем Калининым, что они все даже про вас и не вспомнили? И просто вот – делайте что хотите, бегите, куда хотите? И в вашем если случае даже – ведь под вас у нас поезда отряжали, составляли на Сортировочной, это тогда куда всё?.. Представляете? Это что же на них перевозили, спрашивается?
РАЗВАЛИНА. (Продолжая стирать). Ну, и не вспомнили… большое дело. Кто мы есть, чтобы про нас вспоминать…
НИВЕРИН. Ну как же… это же государство… они должны…
РАЗВАЛИНА. Это у капиталистов все друг другу должны, у них на то сто тыщ банков наделано, а у нас – жизнь, а по жизни, мил мой друг, никто никому ничего не должон, вот я что скажу. А тем более – на войне.
НИВЕРИН. Но, мне кажется, именно война… война – это же такие обстоятельства, когда нужно с особым вниманием именно относиться к людям…
РАЗВАЛИНА. К солдатам на войне нужно относиться со вниманием – они врагу морду бьют. А мы, гражданские, сами должны не теряться, и иметь понятие, где да как лучше прожить. Вот у вас какие есть против войны методы вашего гражданского сознания, Ираклий Саныч? Вы давеча говорили – как кругом страшно всё. Вы что делаете, чтобы не пужаться?
НИВЕРИН. Ну… а знаете, есть такая практика – йоги. Они в общем уверены, что мира как такового не существует. Это, в сущности, надо мантры читать и ходить, а лучше – сидеть в позе лотоса. Я покажу сейчас, вам, возможно, будет любопытно.
Развалина продолжает стирать, поглядывая на Ниверина, который усаживается на табуретке в позу лотоса. Ниверин складывает пальцы в мудры и произносит АУМ.
РАЗВАЛИНА. Ваше подошло. Вы умеете стирать-то? Или я давайте…
Ниверин поспешно прерывает обряд йоги.
НИВЕРИН. Да, конечно, я сам. Ну, вот так как-то. И мантры. Чтобы обернуться в себя и отыскать, знаете, Первопричину.
Ниверин становится к баку, засучивает рукава, забывает про пиджак, вспоминает про пиджак, снимает пиджак, засучивает рукава снова, опускает руки в мыльную пену, и тут кричит Греня.
ГРЕНЯ. Ма-маааа!.. А чё он?!
У Ниверина дёргается рука, и он опрокидывает большое корыто мыльной воды. Вода бежит большой волной по комнате, разделяясь на ручейки и потоки, девочки Анечка и Греня вспрыгивают на свою лавку, не забыв подобрать одеяло, мальчики пятятся от воды, А Ваня метко, издалека, выплёвывает воду от чистки зубов, попадая в рукомойник.
НИВЕРИН. А Первопричина…
РАЗВАЛИНА. Вы, Ираклий Саныч уважаемый учёный, но, вы не обижайтесь, я вам честно скажу – до такой степени руки иметь в жопе по самые лопатки, это я не знаю. Вот в этом и ваша Первопричина и есть.
Развалина начинает хохотать. Она берёт тряпку,
РАЗВАЛИНА. Ну-ка, на лавки все! И чтобы не боцать мне босыми по полу!
даёт Ниверину другую, и они начинают вытирать пол.
РАЗВАЛИНА. И вот я ж что вам говорила-то… а, я думаю, что – может быть Маканя прибрал себе ребёночка тогда, который самый тёпленький? У него семеро детей было тогда, да жена, которую он инвалидом сделал, покуда пил да по каторгам скитался… А он мог бы, Ираклий Саныч. Тем более, что он самоустранился потом от того, чтобы ими как-то заниматься, это батюшка наш только один старался. А он в избу пошел, и ворота и изнутри чем-то притиснул так вот, крепко, и что они там делали – только я его потом видела. Он какой-то другой шёл.
НИВЕРИН. Это уже вообще Тёмное Время какое-то…
РАЗВАЛИНА. А когда оно было светлое, время у нас? Те три дня, что тебя на руках по избе носили, на свадьбу?
Ниверин, ища, куда бы отжать тряпку, выбирает прикрытое крышкой помойное ведро, открывает его и видит там остатки окровавленной одежды и кости. Он смотрит в ведро так долго, что Развалина отрывается от вытирания пола от воды и мыльной пены и подходит к нему. Развалина смотрит в ведро. Дальше до конца сцены они говорят вполголоса.
РАЗВАЛИНА. Это не туда, Ираклий Саныч, там я для приманки кости сохранила.
НИВЕРИН. Для… (он проглатывает). Для… приманки?
РАЗВАЛИНА. Собачкам выкину, я там следы видела во дворе свежие пару дней назад. Сегодня, после обстрела, должны набежать.
НИВЕРИН. Почему вы так… думаете?
РАЗВАЛИНА. Так они же мёртвых будут искать. Обстрел был под вечер, смертовики не поедут на ночь – комендантский час. Поедут утром, значит, все, кого зацепило, останутся лежать до утра. Кого приберут добрые люди, а кому-то и не так повезёт.
НИВЕРИН. И… вы думаете, собаки будут их… есть?
РАЗВАЛИНА. Собаки будут есть, у них такой с Богом уговор. А я их на то мясо поймаю. На кости поймаю, мясо-то я на кулиш определила…
НИВЕРИН. И это значит, мы сегодня…
Ниверина тошнит в ведро. Развалина в сердцах бросает тряпку. Потом машет рукой и снова вытирает пол. Ниверин кричит в коридор.
НИВЕРИН. Анечка! Давай всё-таки домой пойдём, дочка!
РАЗВАЛИНА. Да вы что, Ираклий Саныч? Да вы что? Вы брезговаете? Вы нас простите, мы-то простые, мы-то не хотели… да и что такого, я считаю – то ж не я его убила, он сам замёрз, а что ж мясу-то пропадать…
НИВЕРИН. Нет-нет, я вам не… я о вас никак в этом смысле не думаю, мне просто стало неловко, вы понимаете… я тут вам всё только привожу в негодность… (смеётся). Анечка! Одевайся, дочка, если ещё не одета!.. Мы идём домой! (Развалиной). Мне… нам просто лучше сегодня это… переварить… не бойтесь, я Анечке ничего не скажу… всё-таки пусть, ребёнок поел… хоть и так… спасибо вам, Мария Ильинична…
РАЗВАЛИНА. Да вы как же пойдете – а как вы дверь станете закрывать?
НИВЕРИН. Я… вы знаете, я… я притистну, как Маканя ваш. Притистнусь изнутри, как вы, помните, говорили… накрепко. И так… спасусь, быть может…
РАЗВАЛИНА. Притиснулся, я говорила… Бельё хоть оставьте мне, я вам постираю хоть, раз я так вас напугала… хотя я не понимаю, чего вы так напугалися. Мы ж о тогда в деревне всех собак первыми поели, если что, а потом старики сами стали говорить – вы нас не хороните, а – в суп, так хоть вы спасётеся. Нормальное мясо, чуть такое, знаете… ну, а что я вам говорю, вы ж сами ели только что.
Ниверина снова тошнит в ведро. Анечка заканчивает одеваться – она и так была одетая, только верхний свитер сняла.
АНЕЧКА. И я всё равно не понимаю, что за спешка такая горячая. Папа…
НИВЕРИН. Вот, это она у меня в маму… понимаете, та тоже так вот, как скажет – и всё, центр положения… мы пойдём, Мария Ильинична. Мы пойдём, спасибо вам за всё, вы очень добрая, и у вас удивительная, конечно судьба, я поэтому всё понимаю. Но мы – пойдём. Не обижайтесь, ладно, Мария Ильинична?
РАЗВАЛИНА. Да мы не обижаемся Ираклий Саныч… вы простите, если что… я же просто так понимаю, что тут давно уже так, и всех поели, кого могли. Птицы какие – пуганые – вы видели?
НИВЕРИН. Мария Ильинична, простите. У нас тут ребёнок. Всё. Спасибо. Мы пойдём.
РАЗВАЛИНА. Ну, я тогда как крюк сделаю завтра, постучусь к вам, хорошо?
НИВЕРИН. Прекрасно… крюк… это прекрасно… всего хорошего, Мария Ильинична… извините, что я вам…
Ниверины уходят. Развалина стоит в коридоре и смотрит на залитую водой кухню и на заблёванное ведро с костями. Припоминает Ниверины мудры, складывает пальцы. Расставляет руки и простирает их над хаосом в комнате.
РАЗВАЛИНА. Аум…
4.
Ниверины в комнате Анечки – маленькой, кровати стоят, тесно прижаты друг к другу. Анечка кутается в одеяло, Ниверин взволнованно курит, растапливая печку книжками.
НИВЕРИН. Нет, Анечка. Это было не глупо.
АНЕЧКА. А по-моему, очень глупо.
НИВЕРИН. И мы больше не будем ходить к ним в гости.
АНЕЧКА. Прекрасная новость.
НИВЕРИН. Лучше совсем ни к кому не ходить.
АНЕЧКА. А нам и так не к кому больше ходить.
НИВЕРИН. И самое главное, Анечка – ты больше не возьмёшь у них ни куска.
АНЕЧКА. А я и так не брала никогда.
НИВЕРИН. Нет, это только подумать, подумать только?
АНЕЧКА. Ты про то, что они от замёрзших людей отламывают, папа?
Ниверин внимательно смотрит на дочь.
НИВЕРИН. Ты знала?
АНЕЧКА. Конечно, знала. Мы с ними гуляли, и Ваня девочку мёртвую во льду нашёл, в Неве, растерзанную. Мы ему помогали с Греней выкапывать. Это тогда я носки у сапожек облупила как раз, помнишь?
НИВЕРИН. И как ты к этому отнеслась?
АНЕЧКА. Нормально я отнеслась. Их же вон сколько, а тётя Маша без прописки никуда устроиться не может.
НИВЕРИН. ГОСПОДИ, ДА ПРИ ЧЁМ ТУТ ПРОПИСКА?!
Анечка испуганно оглядывается на него. Ниверин не замечает этого. Он швыряет книгу в печку и выпрямляется.
НИВЕРИН. Да при чём тут прописка, вы что все с ума посходили?! Какая прописка?! Человеком надо быть, веровать в светлое, а такой человек не то что съесть – обидеть не сможет другого человека, Анечка! Для человека будущего нет ничего более святого, чем жизнь, ибо она бесценна среди этого мира, ведь вокруг нас – мёртвый космос, Анечка, мёртвый космос и камни, вращающиеся по орбитам вокруг огромного огненного шара! Нигде нет жизни в нашей Вселенной, на миллиарды километров простирается, Анечка, один только хаос и ледяная смерть! И только мы, на крошечной голубой планетке, живы и Р А З У М Н Ы, Анечка, разумны, и это бесконечно нас обязывает быть венцом творения! Может быть, мы им и не являемся, может, прав Циолковский и есть ещё более мыслящие и прекрасные существа во вселенной, чем мы, но сейчас именно нас называют людьми! А вон там (Ниверин показывает рукой) живут люди, которые до сих пор не выбрались из Средневековья, неужели ты не поняла сегодня из рассказов Марии Ильиничны?
АНЕЧКА. Я поняла, что они от голода все чуть не умерли, а потом у них деревню разбомбили, и мне было их жалко.
НИВЕРИН. Мне тоже их жалко. По-человечески. Но как человек, обладающий разумом, я понимаю, что в данных обстоятельствах, Анечка, этот процесс неизбежен. Война, которая лишила крова Марию Ильиничну и её семью, разрушила и наш с тобой дом, Анечка. Но мы трупы не едим. И не будем, пока я жив.
АНЕЧКА. Зато мы еле ходим, а они вон какие живые все, и гуляют каждый день, а я только до двери подъезда могу дойти, а дальше у меня голова кружится. А поднимаюсь я только до второго этажа, а потом отдыхаю, и дальше уже только по одному этажу могу пройти, и опять отдыхаю. И поэтому меня в прятки всё время застукивают…
НИВЕРИН. Да как же ты не понимаешь, что это гадко?
АНЕЧКА. Правда, папа, не понимаю. Та девочка и так была мёртвая. Ей уже всё равно. И даже если с точки зрения религии посмотреть, то и души там нету. И нет никакого вреда никому, она же ничья была, а если бы даже и чья, её всё равно кормить же нечем…
НИВЕРИН. Анечка, замолчи. Ты сейчас чушь несёшь. Прекрати.
АНЕЧКА. Это ты прекрати! У меня тут и так друзей нет, а ты ещё с единственными меня разлучаешь! Да пусть они хоть кого едят, с ними всё равно веселее, чем тут сидеть!
НИВЕРИН. А если они и тебя съедят?
АНЕЧКА. Пусть едят, всё равно война никогда не кончится, и меня всё равно убьют на обстреле или ночью бомба упадёт! И так каждый день знаешь, как страшно, а с ними не так страшно, они… они знают, что делать, чтобы не умереть, а ты не знаешь.
НИВЕРИН. Знаю, дочка. Вот я как раз – знаю. Выжить можно по-разному. Можно – любой ценой, а можно – не преступив законов человеческой души.
АНЕЧКА. А по этим законам никого есть нельзя? Даже, когда у тебя ничего другого нет?
НИВЕРИН. А у Марии Ильиничны нет?
АНЕЧКА. У неё нет. У неё самое главное – прописки нет…
НИВЕРИН. Ну вот, опять прописка… свет клином сошёлся, что ли на ней?
АНЕЧКА. Наверное, раз без неё тётю Машу на работу не берут, и карточек, как у нас, не дают ни на неё, ни на Греню, ни на Ваню, ни на Савоську. И что ей ещё есть прикажешь? Ты ещё когда ей обещал, что куда-то там сходишь, попросишь…
НИВЕРИН. То есть в том, что она ест мертвецов, я виноват, ты хочешь сказать?
АНЕЧКА. Я лично ничего не хочу сказать, я маленькая и мне такие выводы делать ещё рано. Я лично спать буду, а сказать я на самом деле хочу вот что – что с Греней я больше спать люблю, потому что мы ровесницы, и с ней можно шептаться, а с тобой нельзя, потому что для тебя это всё несерьёзно, и ещё Греня не курит перед сном, и с ней физически приятнее спать, и она не храпит!
Анечка решительно ложится и укрывается с головой. Ниверин качает головой и кидает в печку ещё одну книжку. Анечка поднимает голову.
АНЕЧКА. И ещё кстати, знаешь, что…
НИВЕРИН. Анечка, спи, пожалуйста. Ты, видимо, просто не доросла до понимания каких-то вещей.
АНЕЧКА. Может быть. Зато я вполне доросла до понимания того, что мясо помогает детям тёти Маши искать дрова, а не жечь книжки.
НИВЕРИН. Анечка, как тебе не стыдно!
АНЕЧКА. Мне как раз стыдно. Каждый раз, когда я жгу хорошую книжку.
НИВЕРИН. И папе тоже стыдно. Ты не представляешь, как. Поэтому я жгу только те книжки, которые не первостепенной важности.
АНЕЧКА. А они вот совсем не жгут. Вот ты говорил, что мы должны быть во всём людьми в первую очередь. Так вот я считаю, что в первую очередь люди, может быть, не должны книжки жечь, потому что если их все сжечь, как же те, кто будет после нас, научатся быть людьми?
НИВЕРИН. То есть ты предлагаешь мне наесться трупного мяса, и идти на улицу искать дрова, чтобы сохранить в целости Достоевского?
АНЕЧКА. Я такого не читала ещё. А он хороший писатель?
НИВЕРИН. Он величайший писатель. И вот он точно людей есть не стал бы.
АНЕЧКА. Тогда бы он просто умер бы и ничего не написал. И никто бы не узнал, какой он великий.
Анечка засыпает. Ниверин одиноко курит у печки, в которой потрескивают учебники по начертательной геометрии, краткий атеистический словарь, сочинения Ленина и Маркса. Рядом с печкой покорно ожидают смерти стопки журналов, энциклопедии, кипы чертежей и курсовых. Обои в комнате, до того наклеенные кое-как, покоробились от сырости и холода и отстали от стен. Окно заклеено крест-накрест. Дверь рассохлась от перепадов температуры, паркет давно разобран и сожжён в печке.
НИВЕРИН. Господи, да когда же всё это кончится… Господи, сколько же эти люди будут над нами издеваться. Господи, они же делают, что хотят, а мы – кто мы для них? Что мы можем сделать? Правда, только и остаётся – есть друг друга. Конечно, с низведённым до уровня зверей народом можно делать всё, что угодно, можно послать на какую угодно стройку, затеять любую войну, какую угодно коллективизацию, его можно сплачивать и разобщать, покуда не слепишь своё идеальное государство, да только, Господи – идеально ли государство, в котором люди едят мёртвых детей, солят лебеду, и поднимают на вилы учёных?.. Господи, дай мне сил. Дай мне сил не опуститься до их уровня, и дай мне мудрость объяснить всё это ребёнку… Господи, прекрати эту войну. Господи, прекрати эту войну. Господи, дай ума им всем и прекрати эту войну…
5.1
В квартире Развалиных Мария Ильинична вытерла за это время пол, вынесла и разбросала кости, а Ваня, Греня и Савоська улеглись спать. Развалина возвращается, обметает веником снег с валенок, не раздеваясь, подходит к печке и греется. Савоська, Ваня и Греня лежат неподвижно, закрыв глаза. Тикают часы, и техническим эхом отвечает им метроном из радиоточки.
ГРЕНЯ. Мама, Ираклий Саныч ушёл, потому что мы мертвое ели?
РАЗВАЛИНА. А ведь знала, что не спите. Вы, когда спите, сопите все одинаково, а тут – разно.
САВОСЬКА. А Анечка давно знала, что мы едим, ему не хотела говорить.
ВАНЯ. Он теперь её к нам вообще никогда играть не пустит, да?
РАЗВАЛИНА. Мож, и не пустит… аль вам жалко?
САВОСЬКА. Конечно, жалко, она придумывать, знаешь, как может?
ГРЕНЯ. И она была моя единственная подруга, а так я с кем буду разговаривать?
РАЗВАЛИНА. Ну, и нечего с ними разговаривать. Я и не напрашивалася. Я тоже, со своей стороны имею величие, вот и так. Я ему и дверь починила, и в гости, и постирать – чего я ему не то сделала? А кого я ем, его не касается. У меня ихних магазинов нету. И какавы я им не могу заварить. Мы люди второго сорта тут, и еда у нас такая же – чего нашёл, того и жри, не рассматривай. Если бы я могла, я бы ворон ловила, да откуда они возьмутся, вороны, если люди вон – сами как вороны, весь мусор поели? И кошек потравили всех с крысами вместе, ни себе ни людям…
ГРЕНЯ. Просто они интеллигентные люди, мамо, и им это дико, что такое можно есть…
РАЗВАЛИНА. Мне тоже, может, много что дико. А мне дико, может, например, что как это можно до такой степени ничего в жизни не уметь, что тебя даже на завод не берут! Вот так. У него вон дитё, а он на своей интеллигентской карточке сидит, вот это дико, я считаю. Кабы у меня была ихая прописка, я бы давно уже на завод пролезла, и триста грамм хлеба имела бы, а не эти сто двадцать с копейками! Вот и так я вам скажу, так что мне на его дикость интеллигентскую глубоко с приветствием, прости Господи.
ВАНЯ. Ладно, что он там может запретить. Он нас, если что, не догонит даже.
РАЗВАЛИНА. Да пусть что хочет, запрещает – мне прописку получить, я и без его запрещений мертвецов есть не стану! А то к домоуправу сходить – это мы только обещать можем. Он ходит, видите ли, еле-еле… да ты мне скажи, мол, пошли завтра к домоуправу, Мария Ильинична – я его на руках к тому управу отнесла бы.
САВОСЬКА. Он такого не может допустить. Он же всё-таки мужик, хоть и хилый, конечно. Ему гордость запрещает себя на женских руках носить.
РАЗВАЛИНА. А раз гордость запрещает, не надо языком чесать зазря. Не можешь – так и скажи, не могу, и потом не удивляйся, что я ем! У меня трое детей на горбу, ты одну прокормить не можешь, так на моё мясо не фыркай, вот так вот. Сиди и пой вон «аум» своё, может, оно тебе на тарелочке прилетит, да в рот прыгнет! Всё. Спите давайте. Кто спит – тот обедает.
ВАНЯ. А мне без сказки не засыпается…
САВОСЬКА. И мне…
ГРЕНЯ. И мне…
РАЗВАЛИНА. А то вам мало сегодня сказок было… Ладно, слушайте. В далёком царстве, в старом государстве жил да был царь Емельян. И было у него два сына – Ванька-богатырь да Савоська-сильномогучий… и ещё была у него дочка Гренюшка, красоты несказанной, да искусница-умница… И вот однажды вороги налетели на ту страну, и не было ворогам ни числа, ни вычисления, прямо вот как ни в сказке сказать, ни наяву придумать… и побили вороги всю силу воинскую у Емельяна-царя, и осадили его город белокаменный с церквами богатыми, с подвалами глубокими, а в подвалах тех было добра не счесть богатого…
ВАНЯ. И сыр там был?
РАЗВАЛИНА. Сыра там было стопитсот разновидностев. И золота было много, и кубков старинных, муки на полсотни лет… и вороги прислали Емельяну-царю пропагандический такой… дирижабль, и на нём написали огромными буквами, чтобы Емельян-царь город им в руки сдал, золото да муку на телеги сам погрузил, да на себя и на всех своих горожан сам оковы надел, да в глубокий подпол себя сам запер – тогда оставят они его навечно гнить, но живого. А если ослушается царь Емельян, если биться с ворогом станет, написали вороги на другой стороне дирижабля своего, то тогда быть всем им убитыми, и в скотомогильник их покидают…
САВОСЬКА. И подожгут…
РАЗВАЛИНА. И подожгут… вы спите давайте. И вот царь Емельян позвал своих деточек и сели они думу думать – как ворога побить да в свинячью, прости Господи, жопу прогнать отсюдова. И первым говорить стал Савоська-сильномогучий, потому что был старше всех. И сказал он – дайте мне дубинушку мою стоеросовую, на сорок прихватов, да пойду я ворога чесать во все места, что тут долго думать. Привезли ему дубинушку на пяти телегах, взял он её, да как даст по фашисту!
ГРЕНЯ. По фашисту?
РАЗВАЛИНА. По ворогу. И побил без малого половину, но поломалась у Cавоськи дубинка и стали его вороги в полон тащить. Подогнали к нему сорок сороков оставшихся танков и тянут его к себе. А Савоська-сильномогучий в землю упёрся и не даётся в полон, и брата Ваню-богатыря кличет. И Ваня-богатырь надевает свои рукавицы свинцовые, подпоясывается мечом булатным, и спешить к Савоське на выручку… Прибегаеть, и давай танки брать свинцовыми рукавицами, да в ворога обратно запускать. И как махнёт он танк – так там в войске у ворога улица. А махнёт два – так там сразу и площадь Дворцовая… и так вот побил он от той половины ворога половину, и порвались у Ванютки-богатыря его рукавицы свинцовые, и нет его больше моченьки…
Развалина прислушивается. Дети спят.
РАЗВАЛИНА. И нет его больше моченьки… Господи, Царица Небесная! Прости меня и укрепи не помереть, пока всё не кончится. Господи, помоги дожить до когда оно кончится!
Развалина крестится, подбрасывает в печку пару ломаных ножек от парт, и ложится спать.
5.2
Маленькая Анечка выходит из своей квартиры, держась за косяк. Некоторое время осматривает дверь, потом аккуратно вытаскивает табуретку. Осторожно, держась за косяк, Анечка влезает на табуретку. Достаёт молоток из-за пояска платьица и приколачивает маленькими мебельными гвоздиками новогоднюю гирлянду – красных снежинок. Ожерелья из красных, синих, белых снежинок висят у неё на шее. По лестнице поднимаются Ваня и Савоська, Савоська несёт человечью ногу в худом сапоге, завёрнутую в краденое в декабре в бомбоубежище одеяло. Анечка слабо салютует им пионерским салютом, удлинив правую руку молотком.
АНЕЧКА. Здравствуйте. С наступающим.
ВАНЯ. И вас тоже. Красивые.
АНЕЧКА. Это я вчера вырезала.
САВОСЬКА. А вырежи нам такую же?
АНЕЧКА. Покопайтесь тогда, найдите бумаги, или хотя бы газет, и осторожно вечером принесите.
ВАНЯ. Твой по-прежнему нас ненавидит?
САВОСЬКА. Да мне лично по фигу, что он там ненавидит. Мы же всё равно часто видимся.
АНЕЧКА. Что нового в городе, расскажите лучше.
САВОСЬКА. Вчера набирали дежурных на крыши, нам сказали приготовиться и ждать.
АНЕЧКА. Вас возьмут на крышах дежурить? Да вы врёте!
Савоська крестится, а Ваня показывает «честное пионерское».
ВАНЯ. Комендант военной обороны так и сказал: скоро и ваш черёд придёт. Вчера много пожглись, некоторые жертвы даже были, немногочисленные…
САВОСЬКА. Четырнадцать человек.
АНЕЧКА. А из нашего дома есть кто?
ВАНЯ. Из нашего никого. У нас другая радость…
САВОСЬКА. Тихо! Я расскажу!
ВАНЯ. Ане я буду рассказывать, а ты Тамаре рассказывал уже сегодня.
АНЕЧКА. Что за Тамара?
САВОСЬКА. Да там девчонка из общаги, они пришли в бомбоубежище отсиживаться, у них общагу разбомбило…
АНЕЧКА. Ясно мне всё. Рассказывай, Ванечка.
Ванечка благодарно жмёт Анечке руку и выступает вперёд. Анечка, держась за косяк, садится на табуретку и поджимает ноги под пальто. Савоська стоймя прислоняет закаменевшую от холода ношу к двери своей квартиры и садится рядом на корточки.
ВАНЯ. Мама добилась-таки, чтобы покойника с первого этажа убрали, представляешь?
АНЕЧКА. А у меня папа один раз сходил, и всё. Сказал, что систему не прошибёшь.
ВАНЯ. Вот поэтому и не прошибёшь, что он один раз сходил, и всё. А наша мама каждую неделю куда-то ходила, и его наконец-то приехали забирать. И мама моя пошла, как свидетель. И они входят с мамой в комнату, а там окно было разбитое чуть-чуть, раньше, осколком, на обстреле, и – ты представляешь? Там кто-то открыл окно, порезался, там кровь на стекле, и там кучу всего, по ходу, из квартиры вынесли, а у него жопу отрезали одну.
АНЕЧКА. Как – одну жопу?
ВАНЯ И САВОСЬКА ВМЕСТЕ. Одну половинку.
АНЕЧКА. Обалдеть… ваша работа?
САВОСЬКА. С ума сошла? Мы где живём – там не срём…
ВАНЯ. Вот так. У нас обыск был, но ничего не нашли, конечно. Мама ни разу в ту квартиру не ходила же.
АНЕЧКА. И что они теперь будут делать?
САВОСЬКА. Помнишь, ты нам книгу давала почитать, про краснокожих?
АНЕЧКА. Фенимора Купера?
САВОСЬКА. Во-во. Они обсуждали, а мы подползли с Ваньком, как Кожаные Чулки оба…
ВАНЯ. И раскрасились.
САВОСЬКА. И раскрасились, как в книжке у тебя, а они там обсуждали сначала, что надо засаду поставить, потому что они могут вполне, следователь сказал, за второй половинкой прийти, и заодно дограбить то, что не нашарапили…
ВАНЯ. Там чревато тем, сказали, что они могут по остальным квартирам пойти… у нас ладно, мамка его живого задавит, а если бы они к вам пришли бы?
АНЕЧКА. Точно-точно… у папы моего жопу бы на ать-два отрезали…
Все смеются.
САВОСЬКА. Ну вот, и потом они решили снайпера у нас на крыше оставить, он теперь на чердаке живёт. И ещё сказали, что на нашем направлении огонь усиливается, и скоро тут вообще ничего не останется, так что нет смысла…
АНЕЧКА. Ничего себе… но Тарасова они забрали?
ВАНЯ. Забрали. И маму увезли, она обратно потом домой еле дошла.
САВОСЬКА. Утром только отпустили, с какой-то справкой зато, что она теперь официально беженка, имеющая постоянное жильё, что-то там…
ВАНЯ. Не что-то там, а там типа клятвы, что у нас есть постоянный дом, а тут мы временно имеем право жить, пока война не кончится.
АНЕЧКА. То есть вы теперь тут вместо дяди Жени будете жить?
САВОСЬКА. Только пока война не кончится. Он же до конца войны уехал?
АНЕЧКА. Похоже на то. Лучше бы и мы уехали.
ВАНЯ. Эшелоны больше не ходят – дорогу немцы перерезали. Большая опасность, что разбомбят. Очень плотный артиллерийский огонь. А вы в другое бомбоубежище специально теперь ходите?
АНЕЧКА. Мы с папой уже никуда не ходим. Он лежит дома и молится просто.
САВОСЬКА. Богу?
АНЕЧКА. Нет, Ворошилову!
Пауза. Так и не подтаяв, по холодному кафелю парадного сползает мёртвая нога, пока не падает. Савоська встаёт.
САВОСЬКА. Самое главное, что мы теперь по праву можем на дежурства ходить на крышу, засыпать песком зажигательные бомбы!
ВАНЯ. И там надо сдавать неразорвавшиеся и выгоревшие, и значки дают, трёх степеней…
САВОСЬКА. Бронзовый, третье место, серебряный, второе место…
ВАНЯ. И золотой, если больше всех нашёл!
САВОСЬКА. Золотой – это маршальская степень, среди пионеров…
АНЕЧКА. Что-то я ничего о таком и не слышала!
САВОСЬКА. А что ты там вообще слышала, ты дома сидишь всё время…
АНЕЧКА. А куда я его – на себе потащу? Он встаёт только раз в сутки – за пайком, и всё. Зато я по радио всё знаю!
ВАНЯ. Ну, там неважно. Это в основном официальные новости, они про далёкие глобальные изменения, это нас только в общем касается. А мы зато видим, что просто так происходит, вне зависимости.
САВОСЬКА. Вот он так коменданту и заявил. После этого нас назначили следующими на крышу дежурить, по зажигательным бомбам.
ВАНЯ. Если бы ты могла пойти с нами, у нас бы с Греней, если посчитать, ты вышла бы боевая четвёрка – это уже боевая единица.
САВОСЬКА. И ещё Тамару можно взять же.
АНЕЧКА. Да что там за Тамара такая, ты влюбился, что ли, Савосик?
САВОСЬКА. При чём тут влюбился, просто с Тамарой нас пятеро будет, а пятёркой можно зарегистрироваться, как пионерский отряд сопротивления, а пионерский отряд на завод могут взять, а там карточки дадут, прикинь? Всем пятерым? Знаешь, насколько? На двести грамм каждому!
ВАНЯ. Пайка рабочего двести грамм – это если ты отцу даже отдашь половину, тебе дополнительно остаётся целых сто, и к твоим детским, которые ты и так получаешь, прибавить – сколько получится?
АНЕЧКА. Вот это да… двести пятьдесят грамм…
Дети мечтают.
АНЕЧКА. Так, теперь самое главное – это чтобы мой папá меня отпустил…
САВОСЬКА. С Тамарой, кстати, тоже вилами по воде ещё.
АНЕЧКА. Да уж она примчится небось… на край света прилетит к Савосечке-зайчику, да?
САВОСЬКА. Вот что ты бредишь, Анька? У тебя от голода, точно, что крыша покорёжилась.
АНЕЧКА. Она даже если и покорёжилась, то куда надо.
ВАНЯ. Папу, который встаёт раз в сутки, кстати, не обязательно спрашивать. Кто может активно двигаться – тот главнее всегда, потому что у него доминирующее положение. Между прочим, тебя не только поэтому могут не зарегистрировать.
АНЕЧКА. А почему это вас зарегистрировали, а меня не смогут? Я тут постоянно живу, в отличие от вас, между прочим!..
ВАНЯ. Это ни при чём. У тебя физическое истощение. Там, на крыше надо бегать, с лопатами, снег кидать, а ты разве сможешь?..
Пауза.
АНЕЧКА. Мне главное на крышу попасть, там я знаешь, как тушить стану? Я старше тебя, я в пальто больше снега принесу, чем вы на лопате оба вместе взятые…
ВАНЯ. Вот и важно, тогда я возьму огнетушитель, Савоська лопату, ты будешь в пальто носить, а Греня и Тамара будут песком засыпать.
АНЕЧКА. А песком это как?
САВОСЬКА. Это ведро берёшь, песок из ящика туда насыпаешь, и, где бомба взорвалась, сыпешь.
АНЕЧКА. А их много падает?
ВАНЯ. Когда как. Смотря какой тип самолёта нас бомбит. Если большой бомбардировщик, то может даже тридцать тонн выпасть. На той стороне пять штук один раз упало, а за неделю, нам пацаны оттуда говорили, что они пятьдесят потушили и сдали неразорвавшихся двадцать штук.
АНЕЧКА. Да, на той неделе часто прилетали.
ВАНЯ. И на этой будут. Всё, ладно, мы пошли. Нам надо пока мясо почистить, и маму ждать.
АНЕЧКА. А вы одни?
ВАНЯ. Греня в очереди стоит, чтобы номер не потерять, а мама пошла в больницу устраиваться.
АНЕЧКА. А что она делать там будет? Она что, врач?
САВОСЬКА. А что, в больнице одни врачи? Полы может мыть, стирать может раненным, еду готовить… она даже машину водить может, но её, скорее всего, водителем не возьмут – она город плохо знает. Ещё были бы у вас улицы нормальные везде, а тут линии, да ещё на одной стороне – одна, а на другой стороне – вторая.
АНЕЧКА. Нормальные улицы, налево – одна, направо – вторая, всё просто. Это всё шармáн, а вот отпрашиваться мне придётся. Отпустить-то он меня точно никогда не отпустит.
САВОСЬКА. Наоборот, если тебя убьют – он выжить сможет, он же большой, и профессор, а ты просто козявка, и всё. Ты помрёшь сразу.
ВАНЯ. Он не имеет права тебя не пускать в военное время пользу Родине приносить.
САВОСЬКА. И вообще я бы на твоём месте просто написал бы записку, вообще, изложил бы там всё и пошёл, куда хочешь. Ты лучше говори – пойдёшь к нам в боевую четвёрку?
ВАНЯ. Да. Говори, а потом думай.
АНЕЧКА. Пойду, конечно. Я даже на Тамару согласна. Только мне надо…
ВАНЯ. В первую очередь ты должна, как боец, обрести боевую форму. А для этого пошли к нам, будешь помогать чистить продукт питания, который мы принесли.
АНЕЧКА. А долго?
ВАНЯ. У нас с ним где-то час получается. Втроём должно быть на двадцать минут короче, где-то минут сорок. Но сначала она таять полчаса будет. На шубе.
АНЕЧКА. На шубе?
САВОСЬКА. Шубу сворачиваешь и подкладываешь, чтобы она снизу не горела, а равномерно распределялась температура.
АНЕЧКА. А шубу где взяли?
ВАНЯ. Я обнаружил, в шкафу.
АНЕЧКА. Эх, тётя Лида даст вашей маме…
ВАНЯ. Мама тут ни при чём, она про это не знала, а потом уже поздно было. Она нас выдрала, как Сидорову козу, а из шубы всё равно волосы все повылазили, и сгорели.
САВОСЬКА. Мы всю комнату завоняли, нам ещё и за это попало, столько же, сколько за шубу.
ВАНЯ. Так что там всё нормально, нас уже наказали. Зато теперь не пахнет даже. Мы наглухо, в три слоя заворачиваем, и на печку кладём. И потом в коридор выносим и там разворачиваем.
АНЕЧКА. Это я знаю, к нам в квартиру из коридора тогда иногда заходит запах. Папа тогда говорит, что он на вас заявление в домком напишет.
ВАНЯ. Пусть пишет, эти трупы никому не принадлежат, они – побитые войной индивидуальности. Ладно, пошли, сейчас будем печку разжигать. Я вчера такое здоровое бревно нашёл, прямо беда. Мы еле его принесли все трое.
6.
ГОЛОС СТАРУШКИ_2. А у нас листовки ливнями. Сначала, с утра, наши летают – вся улица. Потом снег. Люди выходят – там уже снизу лёд, сверху снег, посередине бумага. Падают. У меня подруга санитаркой работает, говорит – как листовки, так сразу первая волна переломов шейки бедра. Можно часы ставить, проверять. Потом они только успевают сварить кофе – пошла вторая волна. Это немцы прилетели, на те листовки следующий свой слой положили. Опять люди пошли после обеда в очередях отмечаться – пошли снова шейки бедра косяком. Люди ослабли от голода, стёрлась разница между молодыми и стариками. Все одинаково хрупкие…
НИВЕРИН. Вот, как интересно оборачивается война… а перед ней нам всё время говорили, что мы крепки, как сталь…
ГОЛОС СТАРУШКИ_2. А так и есть. Сталь на фронте, а тут остались чугун старый да железо молодое, не закалённое. Просто ходишь и идёшь, и так каждый день. Мне на ногах и голод легче переносить, вот я не знаю, почему. У нас многие по домам в артобстрел лежать стали. Это первый признак, когда дома ложишься – это значит, что организм сдаётся. Ему всё равно становится. И всё. И тогда точно осколком зацепит, смерть к смерти притягивается. Как магнит.
Мимо Ниверина, сопровождаемые далёкими ударами разрывов, ходят какие-то тени. Он вспоминает, как у них с Анечкой вчера кончились щепки, которые они жевали с завтрака до обеда, чтобы заглушить голод монотонной работой нижней челюсти, верхняя оставалась неподвижной и только кажущеся кивала половина лица, как бы укоряюще, укоряюще, да-да, укоряюще и он послал Анечку с кухонным ножом колоть от косяка щепки, потому что не мог разогнуть своё онемевшее сразу от голодного испуга тело, и знаю знаю что она ходит к ним и пусть ходит права она Бог им судья, а больше никто но как мерзко мерзко и как неподобающе и как недостойно высокого звания и как пакостно как отвратительно и как ненавистно как стать хочется этаким кочетом и воззвать к хорошему, а тут мерзко так мерзко…
ГОЛОС СТАРУШКИ_1. А что мерзко-то вам, товарищ?
НИВЕРИН. Нет, это я… ничего. А вот вы не слыхали ли где можно на чёрном рынке купить что-нибудь… мяса… и сколько там стоит?
ГОЛОС СТАРУШКИ_1. Ты, дорогой мой, не-вижу-отсюда-сколько-лет-вам, один остался, кто не знаешь. На тот рынок облава была, а с облавой артобстрел, и сейчас никого нету.
ГОЛОС СТАРУШКИ_2. Так, точно так. Я сама и принимала их оттуда, как раз была моя смена. На носилках по половине носили – пол-вор, пол-чекист, санбратья из покоя шутили, что новые люди мол, с неба сыплются…
НИВЕРИН. Как же это… а наш магазин вторую неделю на переучёте, а в другой – отдельная очередь, и не каждый день отпускают… а мы слабнем, я чувствую…
ГОЛОС СТАРУШКИ_1. А на то война, голубчик. Другие данные, как говорится, не учитываются…
НИВЕРИН. Но… позвольте… а как же мы? Наши данные не учитываются? Совсем? Наши мечты, наша радость, наше всегда, наша духовность? Наши дети, наши стремления? Наши надежды? Наша Главная Цель?
ГОЛОС СТАРУШКИ_2. А какая у вас, позвольте спросить, товарищ, есть главная цель?
НИВЕРИН. Стать лучше. Стать чище, стать… чтобы никогда, чтобы на примере и никогда, никогда, понимаете…
ГОЛОС СТАРУШКИ_1. Так и становитесь. Чтобы никогда больше. Самое время.
НИВЕРИН. Но ведь нельзя же, нельзя есть… скажем… скажем… собак, и при этом стать лучше.
ГОЛОС СТАРУШКИ_2. Может, и нельзя. Да только если помрёшь грешником, тоже ведь лучше не станешь. А так хоть надежда есть. Я вот мурку съела свою. Ободрала и в супе сварила. А ты, Маркеловна?
ГОЛОС СТАРУШКИ_1. Я сама не обдирала, к соседу пошла. Так вы, милый наш, не отчаивайтесь, а ступайте, как кошмария эта кончится, прямо отсюда пешком на улицу, там откуда-то цыгане левый горох украли, и тот горох прямо с фургонов продают. И пока народу нет особенно…
В бомбоубежище по личной инициативе комсомольского состава по внутренней связи начинает играть Лемешев – «Скажите, девушки, подружке вашей».
6.1
Дети ночью дежурят на крыше. Рядом с ними невидимой тенью лежит боец-снайпер НКВД.
АНЕЧКА. (шёпотом). А если его убьют, мы не будем отвечать?
ВАНЯ. Если его убьют, он погиб на войне. Мы его труп к своим принесём, нам, может, даже медаль дадут.
ГРЕНЯ. Мама велела, Ваня, чтобы у тебя шапка была надета на тебе как следует.
САВОСЬКА. А ты зато ябеда.
АНЕЧКА. (ехидно). Меня больше интересует, почему Тамара не пришла?
САВОСЬКА. Да хорош уже, а?..
ВАНЯ. Блин, сегодня точно должны быть… главное, чтобы их всех наши зенитчики не отбили, чтобы хоть ползвена прорвалось…
ГРЕНЯ. Ты, Ваня, полоумный, что ли? Наоборот хорошо, если не будет никого…
САВОСЬКА. И если бы война кончилась бы сегодня…
Шум приближающихся самолётов.
ВАНЯ. На самом деле я точно знал просто, что они прилетят, иначе бы нас не послали на крыши. Значит, точно на одни ПВО не рассчитывают. Вот так.
АНЕЧКА. Всё равно, нельзя же так радоваться, когда город бомбят, мой родной тем более. Ты сам здесь живёшь, между прочим.
ГРЕНЯ. И остаться хочешь…
ВАНЯ. Я первым, за то, после войны пойду на стройку работать и построю ещё в сто тыщ раз лучше…
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Дети, не высовываться, пусть пролетят. Поняли? Особо тебя касается, карапет. Понял? У тебя на жопе прям огненными символами нарисовано, что сам не помрёшь. Давай, протяни хоть до конца войны. Понял?
Ваня онемевает от гордости, что к нему обратился боец. Он отдаёт пионерский салют и что есть силы кричит:
ВАНЯ. Служу Советскому Союзу!!!
И начинается бомбардировка зажигательными бомбами. Вспыхивает множество пожаров на крышах, которые сразу же гасятся бригадами дежурных, по всем району бомбардировки горят дома. Страшно воют фугасные бомбы, на землю сыплются остро отточенные стрелы и осколочные заряды. Огонь шагает с крыши на крышу, как гонимый ветром кусок алой ткани. Несколько бомб падают на улицу и освещают угол дома за которым, вжавшись в узкое дупло подвального полуокна, скорчившись, сидит Ниверин с замотанным шарфом мертвеца лицом, прижимая к груди большой пакет гороха. Самолёты улетают прочь, ребята выбегают из укрытия и несутся к единственной упавшей к ним на крышу зажигалке. Ниверин выбегает из-за угла, чтобы успеть вбежать в подъезд, и боец-снайпер НКВД точным выстрелом убивает его. Ниверин падает в глубокий сугроб.
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Вот так, паразит. Вот и отбегался…
ВАНЯ. Это те воры-людоеды?
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. А кто же ещё. Свои все давно дома – комендантский час.
АНЕЧКА. А у меня папа не дома.
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. А кто у тебя папа?
АНЕЧКА. Профессор технических наук, а каких – я всё время не помню…
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Раз профессор, то знает, что во время комендантского часа нельзя на улице находиться. И к тому же бомбёжка идёт. Нет, твой папа по всему сейчас в бомбоубежище. А самое главное знаешь, что? Рожа у этого выродка была замотана. Ясно? А сейчас ведь ни снега, ни метели. Станет папа твой лицо себе заматывать?
АНЕЧКА. Слабый аргумент, мой папа бы сказал.
ВАНЯ. Аня, не спорь. У него – видишь – стекло увеличительное, это цейсовская оптика, оттуда всё как у тебя в кармане видно, даже лучше.
САВОСЬКА. Вы вообще, дураки, что ли? Аня, ты сейчас доказываешь, что это – твой папа?
АНЕЧКА. Может быть.
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Я тебе, гражданка Анечка, честное своё слово даю, что чпокнутый мой – убийца, вор живым, и жопорез мёртвым. Вы в убежище прятались, а я видел…
ВАНЯ. Мы не прятались, мы все как один наготове стояли…
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Ладно, но вы стояли, а тут лежал тоже наготове, и смотрел внимательно…
АНЕЧКА. Ладно тогда. Сыпь, Греня, больше, потому что что-то она трещит…
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Они всегда трещат, это…
ВАНЯ. Это из-за химсостава!!
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Молодец!
ВАНЯ. Служу Советскому Союзу!!!
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Вольно. И ты впредь, боец Иван Развалин, так не ори, а то фрицы враз пушку про тебя одного наведут, на твой громкий демаскирующий звук, понял?
ВАНЯ. (Шёпотом). Есть!
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Всё дети, благодарю за службу, я погнал до своих, отчитываться. А вы идите домой, ты жди папу, а вы её одну не бросайте, поняли?
ГРЕНЯ. Мы её никогда не бросим.
САВОСЬКА. Мы друзья.
ВАНЯ. И она у нас незаменимое место в ячейке занимает.
БОЕЦ-СНАЙПЕР НКВД. Всё, бывайте. Как там – будем готовы?
ДЕТИ (Хором). ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Дети наблюдают за тем, как боец-снайпер НКВД выбегает из подъезда, подходит к телу Ниверина, отгибает рваный шарф от его лица. Боец-снайпер НКВД поворачивается и машет детям, потом перекладывает горох себе в сумку, взваливает труп на плечи и тащит в темноту.
ВАНЯ. Ну что, пошли пока к нам, пока твой папа не пришёл.
АНЕЧКА. А мне ничего другого не остаётся. Пусть только попробует на меня наорать.
ГРЕНЯ. Орать вообще ни на кого нельзя – не он ли это говорил?
САВОСЬКА. Может, он вообще до утра не вернётся, тогда вообще у нас ночевать останешься.
АНЕЧКА. А там осталось от ноги вашей ещё что-нибудь?
Дети уходят. Ваня возвращается, забирает обгоревший цилиндр зажигалки. Цилиндр потрескивает. Он будет потрескивать очень долгое время.
6.2 (7).
Ниверин идёт домой с пакетом гороха. Идти далеко, и ему холодно, и его шатает от голода. Вокруг него – ни души.
НИВЕРИН. Если принять во внимание, как она сказала, категории, то неминуемо придётся как-то выделять бога…
Ниверин проходит мимо сидя замёрзшего в сугробе трупа, с протянутой словно бы к звёздам рукой.
НИВЕРИН. Вот это – как выразить? Если люди гибнут, теряют человеческий облик, если само основание жизни прекратило существование, если во главу угла поставлено количество потерь, а не прирост, если кончились не только оправдательные аргументы, но и дрова, и хлеб – что ты сделаешь? Что ты сделаешь?
Ниверин останавливается. Потом возвращается к трупу. Труп укоризненно на него смотрит, стесняясь своей посмертной беззащитности.
НИВЕРИН. Оказаться в квартире, мил человек. Просто оказаться бы сейчас в квартире, где тощая дверь защищает от ненадёжности бытия, где доверчиво пахнет плесенью и грязным телом, где в углу стоит ведёрко с процеженной снеговой водой, где темнота и холод, где спит от бессилия и голода который день Анечка… да, мил человек, там хоть и холодно и никчёмно, да зато собачек не едим, так-то… так что, пусть и помрём, да помрём людьми, И НАС С Анечкой Возьмут на хорошие, райские планеты, потому что выжить в войне – может и первое дело, может, разум человеку на то и дан, чтобы изыскивать средства и способы в окружающем бессердечном хаосе, да ведь не только на то, а и на то дан, чтобы рассуждать, а рассуждая – делать выводы и запрещать себе… да-да… непрерывно запрещать, потому что в запретах – дисциплина, а в дисциплине – счастье… и если всем нам умереть – то мы умрём со звуком «АУМ» на устах, а не чавкая чем попало…
Снимает с трупа заскорузлый от едучего мороза и ледяного невского ветра шарфик, обматывает себе лицо.
НИВЕРИН. Ты меня прости, Христа ради. Тут дует страшно, а если меня завтра раздует, или простудит, мы без хлеба останемся. На (название улицы) только завтра хлеб дают. До двенадцати… так, что я говорил? Сколько нам ещё топать-то? Не меньше часа, товарищ совслужащий Ниверин. Так о чём я с вами разговаривал? О том, что ни собачек, ни крыс, ни любого другого живого существа, кушать человек нового мира не должен, а должен он непременно изыскивать средства и способы, слышите вы меня – средства и способы…
Ниверин удаляется в темноту, придерживая под пальто пакет гороха.
Лето 2008 — 27 января 2010 г.
THANXX:
героям-защитникам Ленинграда и труженикам-горожанам, вечным истинам, Евангелию, Иисусу Христу (отдельно) Джорджу Харрисону, Ганеше, Раме, Кришне, шудрам, вайшьям, кшатриям и отдельно Шиве и Кали, браманам и отдельно Ведам, НКВД, Саваофу, Энтони Хопкинсу, Иерониму Босху, Аркадию Гайдару, Дмитрию Жданову, моей жене, её семье и моей маме.
ALSO THANXX:
Portishead, Dalek, Aghast (NOR), Ah Cama-Sotz, Suuri Shamaani, Abruptum, Amesoeurs, Beherit, Bolt Thrower, Celtic Frost, Immortal, Mayhem, Nichts, Wedard, Rob Zombie, Sunn o))), Earth, Chimora (California), Telefon Tel Aviv, Pan Sonic, Patti Smith, Oasis, Sigur Ros, Николаю Ооржак, Dayanidhi, Kedar Pandit, Tim Armstrong, Rancid, Circle Takes the Square, Archive, Experimental Aircraft, Jesus And The Mary Chain, Placebo, iLiKETRAiNS, Art Of Fighting, Cat Power, Red House Painters, Savoy Grand, Jesu, Envy, Sons Of Otis, My Dying Bride, Егору Летову и Опизденевшим, Сергею Скогареву, Николаю f_k Федулову.
MORE THANXXX:
George Harrison in London Radha-Krishna Temple
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
СПЛИН
GOD BLESS:
Hein Braat