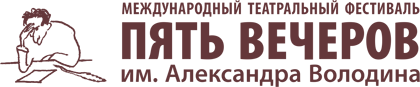Ася Волошина
Пульс поэта
Е. Шварц. «Видимая сторона жизни». Театр на Спасской (Киров). Режиссер Борис Павлович
Маяковский перед гибелью подарил миру образ мозолистых рук поэзии. И в том же стихотворении писал: «Но человек душой губами костяком…», оставляя дальше пустоту, граничащую с бесконечностью. Так вот, кажется, что у лирической героини поэта Елены Шварц, которую в спектакле «Видимая сторона жизни» играет Яна Савицкая, в мозолях душа. Но боль не притупилась — не подумайте! Такую боль убивает только смерть: она не личная, бабья, а сгущенная вселенская. Оттого в спектакле, который Борис Павлович поставил по стихам и дневникам поэта, героиня живет без груза сентиментальности и даже нежности. На сухом пайке нешлифованной муки. Зачехленная в черную кожаную куртку; с глазами чуть прищуренными, потому что так удобнее видеть насквозь. С лицом и телом, про которые даже невозможно сказать, красивы они или нет. Потому что они — как кожа духа — и только. Это вовсе не значит, что героиня асексуальна. Дело в другом: актриса играет человека, который в каждую минуту «душой, губами, костяком» осознает свое предназначение. Напивается ли она вдрызг, выходит ли замуж с похмелья или беседует с тибетским монахом, ей ни на минуту не дано забыть, что она невольница языка. Для Елены Шварц поэзия — «орудие проникновения в загадочную сущность мира. В основе ее — мысль, обогащенная музыкой, ритмом, а музыка и ритм лежат в основе творения». «Все поэты безумны, даже самые плохие из них — постоянно гудящий внутри ритм раскачивает сознание», — такими простыми словами она говорит о сущности стиха; это выдержка из ее статьи, написанной для учебника «Литературная матрица». Поэт всегда сверхчеловек — вот самое важное, что должен школьник понять о словесности. Этим чувством вынужденной принадлежности к касте избранных, усталости от надмирных знаний, от прозрений и тяжких постижений, от жреческих возлияний и ран, которые нужно разбередить ради стихов, спектакль прошит насквозь.
Героиня с легким и, вероятно, привычным вызовом входит в фойе, где давно уже ждут зрители. Входит с видом поэта, хорошо знающего, что любопытство безликой массы — это максимальная плата, на которую он может рассчитывать за акт обнажения души. Оттого и звучит в голосе актрисы такое саднящее небрежение к собственным словам и мыслям. Хотя мысли эти большие, отлитые в идеально несовершенную форму. Но есть ли смысл их артикулировать? Есть ли вообще смысл?.. «Человек человеку — так, приключенье. / Боже Сил, для Тебя человек — силомер». Никто не услышит. И даже настоящая популярность не исправит положения. Станут приглашать в другие страны, где русские стихи — экзотическое блюдо. И блюда эти в изысканных салонах вкушают аристократические старушки — не отрываясь от вязания. Об этом нам расскажут чуть позже…
На самом деле в пространстве фестиваля находятся совсем другие зрители: чуткие и готовые понимать. Но спектакль поставлен в кировском Театре на Спасской, где пока нет «своей» публики. Где много случайных людей, которые (если верить их сообщениям на форумах) заглядывают в театр, чтобы проверить, как распоряжаются деньгами налогоплательщиков. Момент сопротивления заложен изначально. И это очень точно, потому что абсолютно в духе Шварц. Даже премию Андрея Белого в 1979 году ей присудили «за сопротивление языку». Она всегда была за пределами рамок. Не только категорически вне мейнстрима, но и вне андеграунда. И, как бы кощунственно это ни звучало, непонимание большей части зала закономерно и необходимо. Оно работает на смысл.
По условиям игры в начале спектакля Елена Шварц находится на очередном никому не нужном поэтическом фестивале. Потому и читает она как будто нестарательно, сверяясь с книгой, торопя слова. Делая паузы не смысловые, а ритмические — в конце строк: подбрасывая каждую, давая зависнуть на миг и, как воздух, хватая следующую. Перед последним стихотворением поэт словно оправдывается (естественно, без всякого намека на кокетство): «короткое» — дескать, вы потерпите, скоро конец… Но не оправдание это, а совсем другое. Вызов, закономерное небрежение. Она здесь не ради зрителей, а потому что стихи должны звучать. Пусть даже и в безвоздушном пространстве.
Хочешь — первым бей
в живое, горячее, крепче металла,
ведь надо — чтоб куда ударить было,
чтобы жизнь Тебе противостала,
чтоб рука руку схватила.
Провокативная завязка влечет за собой не менее провокативное продолжение. Поэт оказывается в баре или в буфете (зрители изначально сидят за столиками, а актриса перемещается между ними). Глуша коньяк, рассказывает истории никому (ведь не брюзгливой кассирше за стойкой!). Например, истории о том, как она, дочь завлита БДТ Дины Морисовны Шварц, умеет ездить с попоек на такси и не платить. Для этого достаточно ругаться со своим пьяным спутником так, чтобы таксист не выдержал и высадил, не взяв денег. И уже можно начинать осуждать. А нужно — понять. Понять, что хрупка и несокрушима. И груба, как парус, измученный ветром, но ни секунды не вульгарна.
Героиня Яны Савицкой общается с собой и с миром так, как строгая и умная мать говорит умирающему ребенку, что он поправится. Мать понимает: малейшая передозировка нежности в ее голосе, и он поймет, что обречен. А это немыслимо! И бросает все силы на то, чтобы быть как всегда сдержанной и твердой. Хотя сил уже нет. Вот так же жестко и отрывисто героиня говорит о том, о чем могла бы плакать.
Где-то глубоко за толщей высокомерия, за привычкой к нелюдимости, за приросшей к лицу маской презрения в ее душе скрыто человеколюбие. Она будет рассказывать про тех, кто всю жизнь винит себя за то, что однажды вышел на свет из материнской утробы. Есть симптомы, отличительные черты таких людей. Они спят, закутавшись с головой в одеяло, они боятся нырять и любят долго-долго ехать в трамвае в никуда. Говоря это, она и сама раскачивается в нише окна, как в громыхающем вагоне. А потом кричит исступленно: «Остановите! Я проехала!» (значит, не хочет бояться жизни). Трамвай останавливается. Выйти. Но куда?
Пространство и время в спектакле не имеют решительно никаких границ: они смешаны, как в пьяных воспоминаниях. Вышла из кабака и оказалась в Непале. Или в том времени, когда ей было шестнадцать; и влюбленный мальчик принес откуда-то пистолет с одним патроном, а сказал почему-то, что разрядил все. И она приставила пистолет к виску, а потом вдруг послушалась маму, говорившую когда-то: «Не целься в живое». И рванула руку, и пуля влетела в дверной косяк. Но все-таки кажется, что под дулом того пистолета она жила с тех пор всегда. Говорит: «Раньше я писала обо всем, кроме себя, а сейчас ни о чем, кроме себя». Да, она из тех поэтов, которые рвут свои аорты и проваливаются в свои бездны, принимая плановую дозу ядов из горлышка или из ампулы. А не всматриваются больными от изнуряющей зоркости глазами во внешний мир. Но собственное «я» ей интересно как объект для изучения общечеловеческого, как полигон для экспериментов.
Елена Шварц знает свой мозг, словно карту, висящую на стене («Мозг (а верное имя — мост) — / Он повсюду. Звезд / Брызготня — это он, / Вплеснутый в темень»). Знает, в каком уголке у нее Андрей Белый, а в каком Вигель (литературный деятель третьего ряда, входивший в общество Арзамас). И Яна Савицкая показывает эти места на своей голове с такой документальной четкостью, словно чувствует их, как застрявшие пули. Режиссер и актриса два года работали над этюдами по стихам Елены Шварц, но спектакль был придуман и поставлен после вести о том, что она умерла. В финале разговор о жизни и смерти должен подойти к точке невозврата. И это происходит неожиданным образом. Актриса скрючивается, меняет голос — и внезапно появляется еще один персонаж: зловещий старик, опирающийся на меч в ножнах. Он приглашает героиню на небывалый частный поэтический фестиваль в океане. А потом оказывается, что созваны лишь четверо: последние настоящие Поэты.
«Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного царства, является речь, то литература — и, в частности, поэзия, будучи высшей формой словесности, — представляет собою, грубо говоря, нашу видовую цель», — это уже Бродский. Поэт — всегда как мессия или, по меньшей мере, монах, который своим трудом отмаливает бездействие других. Оправдывает существование вида. Сам Бродский, к слову сказать, из огромной внутренней скромности мессией себя никогда не чувствовал. Елена Шварц, в дневниках которой непрестанно встречаются записи о том, как тот или иной великий назвал ее гением, чувствовала несомненно. Потому финал, в котором мировая значимость ее дара вдруг возводится в абсолют, тоже закономерен.
«Старик» говорит, что сейчас хлынет вода: он утопит четверых последних, чтобы не длить агонию мира, ибо без поэзии мир погибнет сам собой. Героиня принимает эту весть безразлично. В неожиданно распустившихся клубах дыма она плывет, спокойно гребя мечом. То ли для того, чтобы попытаться выжить и спасти этот мир, то ли чтобы добраться до тех краев, где за его предсмертными корчами будет наблюдать не так больно.