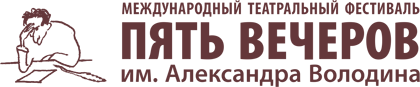Виктория Дергачёва
Высотка
Два монолога
1. «Балерина»
Иешуа. А я её любил, я это точно помню, особенно, когда она говорила, миленький, да, так и говорила, миленький, наклонись, я тебя поцелую, ласковая моя.
Всё прочь, всё вон из моей жизни. Любовь как картошка, завоняла — выкини в окошко. Вот её духи, десять штук, одной только «Красной Москвы» десять, где только достала это старьё, я ненавижу этот запах, меня тошнит от этих духов, уму непостижимо, десять штук. Вот пять флаконов «Ландыша серебристого». Пять пар туфель на высоком каблуке, шесть на низком. Сапоги, тапки, шлёпки. Двадцать вечерних платьев. Всё это рыночное барахло. Всю китайщину. Всё с балкона вон.
Она смеялась, когда её будили солнечные зайчики, когда эти зайцы переваливали свои толстые зады по её щекам. Она смеялась, щурилась изнеженной кошкой, и улыбалась своими отвратительными белыми зубами, когда эти солнечные мячики нежились на её щеках.
Там за окошком плачет ребёнок. Плачет так, что, кажется, больше нет ничего — только этот плач. Она смотрела на детей и просила — миленький, я с ума сходил, когда она так меня называла — миленький, давай, заведём, она ещё сама совсем-совсем ребёнок, я не хотел, её саму воспитывать надо, я не хотел, чего только она не вытворяла, чтобы получить эту живую игрушку, сказать стыдно, вытворяла такое, но где-то через неделю, я велел ей не спорить, потому что я могу зашибить. Почему он так орёт, почему, разбудите его мать, придавите его подушкой, почему он орёт, это потому что такой же дурак позволил своей малолетней дуре завести ребёнка, и она не смотрит, заснула, не хочет за ребёнком смотреть, завела игрушку и теперь заснула, не смотрит, спит где-нибудь в уголке, сосёт палец с надкусанным маникюром, и не смотрит, пока такой же как я, ломовой пони, тащит на себе весь дом.
Всё выбрасывать. Всё-всё-всё. Всё её барахло. Барахлюшко. Все вещички. Её туфли. Её шмотки. Шмотюльки. Её книги. Она читала только романы. Дура. Она любила зарубежные детективы. Идиотка. А как же наша великая русская, великая русская литература? Как же Пушкин, а Лермонтов куда же? На Кавказ? Да что ж это такое? Да как же это? А как же «Хождение по мукам» Алексея Толстова? Бестолочь. Недоучка. Всё-всё вон.
Бросила, бросила, сбежала, туда же, сякая шалава такая, ушла к кому-то другому, сбежала, оставила только тряпки, только свои дешёвые шмотки, и не подумала о том, что будет, если я умру от горя, если, то есть, я умру без неё? Если я умру, будет ли, будет она плакать надо мной? Если я умру, вернётся ли моя райская птичка? Вернётся? Вернётся, я знаю. Когда я умру, я знаю, я буду лежать в белом гробу, тот, который я сам себе уже купил со скидкой и поставил в кладовке на кухне, обязательно в белом, я специально выкрасил свой будущий гроб масляной краской, в белом, оденут меня в какое-нибудь старье, я знаю точно, что растащат, утащат нормальное себе на обновки, народ в году этом, в високосном этом году, вороватый, особенно в нашем подъезде, вот, например, на прошлой неделе, например, украли у меня журналы и две подписные газеты из почтового ящика, дорогие, оттуда, центрально-московские, да, вот такие вот люди, все воры, воры сплошные, а у меня куча вещей в шкафу красивых, которые я не ношу, не постесняются меня мёртвого рядом, останется только тот полосатый страшный костюм, меня в гробу положат криво, и буду я лежать страшный в белом гробу. Она как узнает, что я умер — вернётся, моя райская птичка, вернётся, похудевшая, красивая, с почерневшим лицом от горя, заплачет горько-прегорько надо мной, будет заламывать руки, плакать луковыми слезами из глазок красивых, будет клясться и просить, чтоб простил, но поздно, поздно, я больше никогда не восстану, никогда не возьму её маленькие ручки, не успокою, не приголублю, она будет помнить меня, будет помнить всю жизнь, что любовь не картошка, не выкинешь в окошко, то есть, она не забудет, будет помнить всю жизнь, что я умер, что это из-за неё я лежу в белом гробу.
А всё дело в том, что это он её развратил (он!), когда он её встретил, она была совсем-совсем невинной, он её сразу приметил, когда в свои недотридцать носила, знаете, такие вязанные гольфики чуть выше коленок, так говорила она мне, теплее, в таких гольфиках, а у самой юбчонка чуть ниже выпуклостей, то есть, вы поняли, о чем я, мне стыдно ужасно сказать. С ума сойти, что с ним приключилось, когда эта еврейская рожа её увидела, когда он увидел, как она смеялась так звонко, и делала вид, что не понимает его взглядов, не понимает как бы вообще ничего. Знал я таких, сама как бы невинность, а ресницами машет, порхает по сторонам, а вечером поцелуйчики, с намёком, не просто так, разрешает всякие художества, акробатику, даже неловко под утро в глаза посмотреть, но эта какая-то не такая получилась, какая-то была совсем-совсем другая, не было в ней бабского что ли, а было какое-то другое, чего я объяснить не могу. Бывает у меня так, вроде как понимаю, но слова подобрать сложно. Вообщем, он повадился приходить с её подружкой в гости, сперва, поесть, конечно, я слышал, у общажных так принято по этикету. Её подружка говорила вечерами «милок» (мне!) и «пардон-те», с ума сойти, прямо таки причмокивала говяжьей котлетой «пар-дон-те, подай мне, милок, кофею́», и я бы забыл о приличиях, если бы не моя синеглазая рыбка, тут же присоединявшая к этому «миленький мой, Валюнчик просит, кидай-ка сюда кофею́».
Да, тогда впервые, я заметил между ними что-то, но может быть, сейчас вот, после осмысленья, поначалу это было не всерьёз, а праздное кокетство такое, таким как она присущее. Я заметил что-то, мне показалось, но этого стало вполне достаточно, чтобы мы поругались однажды вечером. Она ко мне залетела в комнату, в тот злополучный вечер, приземлилась в старенькое в заплатках креслице, которое стояло рядом с моим стулом, она там частенько сидела, потому что близко ко мне, она говорила, что для неё это важное, она любила смотреть, как я что-нибудь делаю, а до того, за ужином, он взял её за руку, обнаглел, молокосос, при мне, но, самое ужасное, она была не против, даже как будто бы счастлива от егонного прикосновения, руку не отбирала четыреста восемьдесят три секунды, бесстыжая, вся зарделась и улыбалась ямочками так же как и мне, как будто нет никакой разницы, и я не выдержал тогда, признаюсь, всё получилось глупо. Я не выдержал в тот вечер, я замахнулся — знай своё место! в этом кресле сидит мой сын! ты помнишь, он умер в детстве? заруби на носу, в этом кресле всегда только я или он по ночам сидим! Она сразу притихла, сникла, ручонки сложила на голые коленки, смотрит на меня во все глазёнки и понять не может, за что на неё я повысил голос. А как же я ей такие элементарные вещи-то объясню, как вдолблю в её белобрысенькую хорошенькую головку? Тогда, впервые, в тот вечер, она ушла куда-то без предупреждения, не сказавши ничего, оставив меня с тяжестью в мыслях и болью у сердца, я даже не услышал, как щёлкнул замок. До двенадцати ночи мною были оставлены сто сигаретных окурков в пепельнице, я передумал всё худшее, что только может с ней приключится на горячую девичью голову. Я корил себя, я переживал, я мучился, я обзвонил все больницы и морги области, и, когда не подтвердились мои самые худшие опасения, наконец-то, бесстыжая, хлопнула входной дверью. Лучше бы она умерла, лучше бы в подворотне сдохла, чем смотрела на меня такими глазами. Ненавижу. Всю мою жизнь поломала. Прошлась локомотивом, перемолола, ненавижу за это её. Моя. Моя. Моя маленькая девочка, где бы ты ни плутала, ни барахталась бы — я люблю тебя, дуру мою.
Через тридцать восемь минут взаимных упрёков, мы бросились друг другу в объятья, она обхватила мою шею руками неосторожно, и всхлипывала почти до утра «миленький». На рассвете, вполне примирившись с таким положением, с таким своим положением, раз живёт в этом доме, в доме моём, она засобиралась на тренировку, чего мне не особенно нравилось, танцульки в смысле, но в то утро, в честь примирения, в честь этого события, в честь её просветлевшей мордашки, я даже не сказал ничего, хотя обычно выговаривал ей каждый божий день. Не особенно мне нравится это странное место, в котором машут ногами в купальных костюмах, проще говоря, в труселях под классические композиции, самое для меня противное, там он (он!) был её партнёром, он руками шарил по её телу, странное это занятие, бальные танцы, напускное, а значит, не всерьёз. Но при всём при том, моя девочка, всегда, хоть кол на голове чеши, говорила, что только в танцах протекает её настоящая жизнь! в танцах протекает её настоящая жизнь!! в танцах протекает её настоящая жизнь!!! — всё бестолку, всё бестолку всё то, что я ей говорю, а вообще, она ужасно хорошенькая, с ума сойти, какая она хорошенькая, моя девочка, когда тянет ножку — раз, два, три — вы бы видели, я вот видел, хоть и не одобряю, но раз она от этого всего так счастлива, моё золотце, и так красиво сморится, когда тянет ножку — раз, два, три — можно и потерпеть, и посмотреть ещё один разок. Молчание. Только что, кажется, был дождь, я и не заметил совсем, а асфальт мокрый, на асфальте сошлись забавные рожи, это означает, что совсем недавно прошёл дождь и смыл все следы, следов больше нет. Вот я выбросил вещи, почти всё, вот остались только какие-то старые её рисунки карандашом, она рисовать-то совсем не умела, художница от слово «худо» — худо, худо, худоба — не умела, но рисовала, ей это нравилось, поэтому было не важно, что думаю даже я. И танцевала она, потому что только для неё это было крайне важно, и поэтому ей даже моё мнение было не нужно, ах, как она танцевала — раз, два, три — тянула носок, вы бы видели мою девочку, если бы видели, как она это делает, вы меня поняли бы тогда. А рисовала она странное, она рисовала ангелов, больших и маленьких, толстых и тонких, она рисовала странные рисунки, она рисовала взлетающих ангелов, которые сейчас полетят вниз на асфальт, ангелы полетят вниз на мокрые рожи, смешно. В чёрном городе, кажется, был дождь, потому что воздух стал прозрачным, в чёрном городе в чёрных окнах зажглись огни, и уже видно куда идти, в чёрном городе на чёрных улицах горят фонари, в этом городе с таким прозрачным воздухом, в этом городе с таким светом можно жить, а иначе как? Да уж, что уж тут, да? Молчание. Вечером, когда я уже соскучился чересчур, она вернулась с задумчивостью и пунцовыми щеками, о, как я не люблю это, когда появляется такая морщинка на лбу. Что там произошло? Я должен знать, что там происходило! На все мои законные требования признаться в том, что свершилось, она спокойно отмалчивалась, а потом и вовсе разулыба́лась, как будто это нормально, в порядке вещей так мучить меня. Вы только послушайте-ка её, сходила куда-то, нашлялась, такая сякая, сошла́ся, теперь вот пришла, улыбается своими белыми клычищами, смеётся в глаза, насмехается, и хоть бы что ей было за это. Вы только послушайте, посмотрите-ка на неё, насмешница, сидит, разулы́билась. И я замахнулся — почему ты несчастна? Объясни! Расскажи мне! Что с тобой происходит? Что тебе надо? Любви? А что такое любовь, скажи мне, объясни, золотце, что это такое? Нет, присядь. Нет, давай, разберемся. Всё по порядку. Конкретней. По стопочкам. По полочкам. Объясни, я понять не могу. Это когда великая цель? Или это когда сквозь пустоту вместе? Когда вместе, вместе, вместе. Ты смотри-ка. Есть в кого, видать. Вот я здесь, высоко, на десятом этаже, а тебя нет. Вот я стою на сцене, мне хлопают, мне вручили диплом после длинной речи, а я думаю о том, что тебя нет, и дался мне этот диплом, который я вставлю в рамочку и повешу на кухне, или подарю в этой рамочке для гордости бабушке, потому что мне почему-то не хватает тебя. Почему, почему, почему? Почему ты несчастна? Объясни! Расскажи мне! Что с тобой происходит? А она улыбается. А потом говорит:
— Молчи, а ну-ка, ну-ка закрой рот, слышишь, не смей, не смей, ну-ка, молчи, понял, нет? Разорался мне тут, разуказывался, хайло своё закрой поганое, миленький, в тряпочку, завяжи в узелок, бантичком, не смей мне указывать тут, ну-ка молчи, молчи, понял, ага? И мать мою не трогай, понял, нет? Не смей, не трогай, она единственная была нормальной, нормальней, нормальных изумрудных кровей, единственная знала каким ножом резать мясо, а с какого слизывать чужой десерт, единственная понимала смысл в подтирании задницы, не то что ты, и не то, что я, бы́дла даро́вые, молчи, закрой-ка роток, прикрой пахало, миленький, не спорь, ну-ка, меня слушай, не спорь, понял, нет? Что зеньки-то выпучил, толстобрюхий, не смей, молчи и слушай, что, что смотришь, страшная такая рожа опухшая, у меня такая же, да? — так немного того, надо было дойти, доползти до сюда, подзарядилась немного по дороге, и я доползла, да, такие дела, оттого и такая рожа, бывает и такое иногда, да, по чуть-чуть бывает, одна я что ли такая, имею право, имею право я тоже, понял, ага? Молчание. Поздно она не пришла, под утро тоже, к тому же я ей сам велел уходить, и даже, по-моему, помог чуть-чуть с багажом к тому же, и уже никуда не звонил, зачем, если она считает, что это в порядке вещей, её законное право уйти из дома, шататься шарашке, зачем я должен беспокоиться, уже не исправишь, если дело пошло. И я заметил, что на рассвете утра второго уже беспокоюсь совсем немного, чуть-чуть, вот честно, немного, просто лежу и смотрю в потолок, ужасно, ужасно, ужасное утро второе, возвращайся домой по дождинкам, по теням на стене. К десяти часам такого длинного утра в дверь позвонили, я хотел побежать, вот серьёзно, бежал бы, с ума сойти, как побежал бы, сорвал бы замок от радости, у нас такой замок с запором, советский такой, но ничего, сорвал бы, разрубил топором бы, которого как раз, оказалось, что нет на месте (говорю же — в этом подъезде всё воры, воры сплошные), вот жаль не представился случай, а то бы сорвал бы, поверьте, вот честно, одним ударом сорвал бы, на пороге стояла та самая Валентина, подруга, провалиться бы ей куда-нибудь. Я ей сразу такой — а я иду в магазин — в холодильнике нет ни одной говяжьей котлеты — и почти закрыл дверь, но Валентина где-то в квартире потеряла с бриллиантом кольцо, случайно, так сказала, что делать, допустим, в первый раз вот возьму и поверю, кстати-кстати, она похожа ушами на таксу, мой сосед-спаниель был бы в восторге, такую бы встречу настроить, мне б ему позвонить, Валя, Валя, поищи-ка подольше бирюльку. Так решил для себя, а через секунду зачем-то улыбнулась мне Валентина: «Я вот знаю, что мужчины могут чувствовать тоже». Не пойму, зачем вот это надо вот сейчас, никак я не пойму, к тому же, с таким-то голосом мне стало её жалко ужасно, да и вообщем-то, кому она нужна с таким-то голосом, хотя, если отвлечённо, то есть, как бы отвлечься от всего этого, Валентину замуж бы выдать ещё лет пять так назад.
— А вы знаете, где она? — со слезами Валя спрашивала меня, — знаете, что она оборванкой на асфальтах танцует, ей платят за это, кидают копейку в пакетик для хлеба, знаете, что танцует, позорится прямо в центре города на видном месте, и танцы такие не наши какие-то. «Какие?» Какие-то не такие, — отвечает, — я даже не знаю, но не те, что она танцевала обычно в зале, на которые все любовались, я даже не знаю, названия этому нет, во всяком случае, пар-дон-те, но я этому название дать не могу. «Допустим. И что ты?» Милок, я тоже кидала копейку, — отвечает, — стояла, смотрела, как людям на смех, на разбитых ладонях она там, типа, винтами крутилась, махала ногами, и я два раза кидала копейку, кивнула ей раз, она, лицемерка, мне, типа, сердечно в слезах улыбнулась и тоже кивнула, вот смотрите, смотрите, я нашла с брильянтом колечко, дорогое, три карата, мне подарок, забираю своё, мне чужого не надо, вот сюда закатилось, вот смотрите, да посмотрите же вы, наконец. «Допустим. А дальше с ней что?» А дальше? А дальше сплошная скука, — ответила Валентина, — а дальше, милок, там, в центре препротивный дождь зарядил, на дорогах образовалась огромнейшая лужа, ну вы знаете, должен знать, как это у нас обычно вмиг бывает разливное, все пошли, ну и я, не левая ведь, со всеми, пар-дон-те, пошла. А сейчас она с ним, у меня забрала, он доверчивый у меня такой, кобелина, она окрутила. Кстати, вот адресок, где они притираются, совершенно случайно вам прихватила, а иначе, так и знайте, такой дождь в это время года — к беде, так и знай, да и вообщем-то, сказать больше нечего мне. Я спросил: «Это, которого ты приводила сюда?» Но Валя простилась. Да и вообщем-то, сказать больше нечего, всё, вот адресочек, совершенно случайно вам прихватила, ужас просто дождь какой хлещет в этом году. «Значит, Валя, нашла ты колечко, не забудь, уходя, и куда же, не пойму никак я, оно закатилось? Вот сюда?» Молчание. Когда я остался один, то по необходимости мне пришлось сесть за рабочий стол, счета не ждут, и как бы не было важно всё остальное, но это бумажное, вдруг, преобразилось в первостепенное, жизненнонеобходимое, в прямом смысле даже, говяжьих котлет в действительности нет давно, а хочется хорошо кормить мою девочку, всё остальное может потерпеть. И не то, чтобы мне нравилось это занятие, де́беты с кре́дитами, но я, вдруг, открыл в определённой закономерности чужой жизни, что именно это занятие приносит максимальную пользу обществу, то есть, что первостепенно, мне максимальный доход, который, впрочем, весьма взвешенно распределён не только в банках этого общества, но и, как бы не было пошло, за натюрмортом вот тут в трещине стены. Я помню, стемнело тогда быстро как-то, в столбцах всё ровно сходилось, в подстрочнике не было ничего лишнего, ни одной запятой, я обессилил от побочного напряжения, она, всегда, когда здесь на лысом кресле у меня под боком сидела, в этот момент смеялась, а потом говорила — пора бы проесть результат. А вдруг, она ничего не забудет? Валентина, уходя, шёпотом кинула: забудется. А вдруг, а вдруг, она не забудет? Я помню тот ужасный момент, мне он снился в недавнем кошмаре, когда её лицо растеклось, и слиплись ресницы. А вдруг? Всё выбрасывать. Всё, всё, всё. Да, в принципе, больше не́чего, в принципе, больше ничего и не нужно выбрасывать, ничего не осталось — там под балконом какая-то старуха блаженная собрала почти всё в пакеты. Зачем? Старуха, зачем ты ходишь под моими окнами, зачем ты ходила за мной неделю по моим же следам, я понять не могу, иди к себе на помойку, иди там ройся, иди, я прошу тебя, я очень сильно прошу, не трогай её вещи, до всего уже дотянулась, всё-всё испортила, карга старая, неряшливая, испоганила своими когтищами, отдай, ты слышишь, верни мою девочку, зачем забрала, отдай, убери свои руки грязные от неё, не смей — не трогай! не трогай! — смеётся, завернула в её рисунки её же туфли, потащила пакеты в свою нору. Я припоминал, если это тот самый, я думал, по танцулькам партнёр, если, думал я, эта еврейская рожа небритая хоть как-то обидеть мою девочку, то я не знаю, что сделаю с ним. Я помню, рассвело тогда быстро как-то, и потому что это не любовь, это что-то сильнее любви, это как смерть, я оделся в момент, в карман пальто припрятал кошелёк с деньгами, платок белый клетчатый, ключи с брелком-подковкой и перочинный новый нож. Я запомнил ощупью, пока выходил наружу, все двадцать две ступени, запомнил тяжесть кошелька с деньгами, я помню до сих пор прикосновение к ладони правой платка хло́пчатого и как вчера помню лязганье ключей с брелком-подковкой об острый перочинный нож. Дверь открыл он сам, совсем не в общаге, не впустил сразу, на лестничной площадке я так и стоял, а он в проёме маячил, как будто растерян, заслонил собой всё пространство, хотя щуплый такой вроде бы, не знаю, не знаю, как не ударил сразу же, с первого же его «Здравствуйте, Алексей». Где ты её прячешь, чувырла еврейская, верни мою девочку. Он говорит мне на это: «Давайте, Алексей, успокойтесь, поговорим конструктивно». С ума сойти, в своём он уме вообще, где она, говори, ты её напоил? Отвечает: «Просто она заснула, плачет всё время, вот теперь спит». Если только он обидел её. Я отбросил его тельце килограммов под шестьдесят, влетел в квартиру, он крикнул следом: «Вам налево в спальню, не заденьте вазу, она дорогая, японский фарфор». Я влетел в квартиру, моя девочка на кровати в комнатёнке душной, на грязной постели, волосы мокрые от пота, ещё не высохли росинки на щеках, спит, хмурит бровки от сна. Он появился в проёме через минуту, долго смотрел на меня исподлобья, пускай, бо́язно видно, потом говорит: «Это уже ничего не значит, что здесь, мы разошлись конструктивно, сама снотворное захотела, заснуть не могла, весь бутылёк просила, я не дал весь, просто беда плакала так, у нас будет ребёнок, то есть скоро теперь не будет, она очень не хочет ребёнка, плакала только сильно, из-за ребёнка с танцами придётся покончить, а мне придётся искать другую партнёршу, это трудно, это почти невозможно, просто беда как не хочет ребёнка плакала так». Потом говорит: «Я тоже теперь не хочу, пусть только не плачет, я её тоже любил ведь, всё конструктивно решим с вами сейчас, дам тысяч двадцать на решение данной проблемы, правда у меня это будет в первый раз, вы не знаете — этого хватит?» Я молча достал из правого кармана пальто тяжёлый кошелёк с деньгами, отсчитал четыре пятитысячные купюры, и бросил ему всё это под ноги, подавись, чувырла еврейская, в состоянии воспитать без твоих денег сами, он поднял, положил на краешек стула, присел рядом с деньгами, смотрел, вражья морда, опять на меня исподлобья, пусть ему, главное, что моя девочка только что, вдруг, разулыбалась во сне. «Вы не допускаете возможности любви? Как же вы живёте на свете?» — спрашивает он меня, где уж мне, молокосос, я засмеялся, он от этого, кажется, разозлился только, даже весело и легче стало на сердце, захотелось даже посвистеть, я делаю так иногда, но только тогда свищу, когда никто не видит, с ума сойти, как помогает иногда это занятие, он продолжал: «Если не в любви, тогда в чём смысл нашего существования? Думаю, вы сами себе на этот вопрос пока не ответили. А я при чём, почему должен за это страдать, за эти ваши внутренние противоречия? Факт — нам троим неудобен этот ребёнок, вам-то он зачем, он не вовремя, абсолютно, а у нас с ней только в гору пошло всё. Вы знаете, как сложно найти другую партнёршу? Вы знаете, как часто болеют дети?» Он похож на бульдога. А я похож на беспородного пса. Помню, в какую-то осень на какой-то остановке стоял я, улицы были уже от дождя чёрными, я стоял, я задумался о чём-то своём, всё было тогда хронически трудно. И в тот момент на той остановке ко мне подошла песочного цвета дворняга, с чёрным ухом, уткнулась в колено, потыкалась, потом морду подняла, подмигнула и улыбнулась, я видел это отчётливо как свою руку сейчас вижу. Мне стало не страшно, а легче, как будто встретил я старого друга, и вроде бы надо ответить, а неудобно, чего эта дворняга вообще имела в виду, может, шла мимо и просто так подмигнула, обозналась, неудобно ведь будет потом, ну как тут ответишь, и в своём ли я уме, или уже окончательно того в этом чёрном городе с чёрными улицами? А тот пёс оказался нормальный, всё понял, конкретный, опять уткнулся в колено, иди мол, не дрейфь, двуногий, у меня всё под контролем, мне не западло, я покараулю тут, всё будет ништяк, давай иди, смотри, двуногий, автобус твой подошёл почти, успевай, беги, иди-иди давай, и я не дрейфил, добежал, успел на автобус, мне стало в этом автобусе чуточку легче даже, я помню это отчётливо как помню тебя. «А если я до сих пор люблю её?» — спрашивал он меня. Я завернул её в одеяло, добудиться не смог, хотя пульс ровный и лоб горячий, во сне улыбается, моя девочка, что же ты там делала в этом месте, взял на руки её и понёс оттуда, из этого места, он следом за мной шёл и спрашивал меня: «Что тогда мне вы, если я люблю её?» Мы ушли с ней, она всё улыбалась во сне, шли пока мог, потом попутку поймали — стало гораздо быстрее, он остался в дверях той квартиры, бормотал что-то невнятное долго, то есть я долго не мог разобрать того бормотанья, наверное, подсознательно не хотел, только у лифта до меня долетело: «Что если я её люблю?» Молчание. Несколько дней она молчала, плакала только действительно много, вот так вот ляжет на кроватку, повернётся к стенке, уткнётся в ладошки, и плачет-плачет, а, как известно, от слёз бывает не только лёгкость, но и вселенская тяжесть. От этой-то тяжести моя девочка заболела надолго, и в то самое время как в ней самой формировалась чья-то чужая жизнь, моя девочка в это же самое время лежала в горячке, её даже положили в специальную больницу из-за этого, казалось, ей было без разницы, а я серьёзно опасался, в больнице говорили — это может повредить ребёнку, к счастью, всё обошлось, говорю же — таких больше нет, она молодец, моя девочка. А домой пришли, так смотрела на меня всё исподлобья, смотрит-смотрит, качается на стуле и смотрит, я всё ждал от неё, чего выкинет, она у меня такая, характер зелёный, дрянной, холерический, но, как известно, своя ноша не тянет — она моя девочка, и прав ведь, прав оказался, как выяснилось — украла в больнице снотворное, я вовремя нашёл его, искала долго, она не нашла когда — ничего не сказала, только пару сервизных тарелок случайно разбила, только молча на меня смотрела, как будто ждала чего-то, а ночью плакала тихонько в ладошку. Потом опять сбежала. Я сразу же вниз спустился, бегом через парк, в парке озерцо́ синеет, утки плавают, пробегаю всё это, прибегаю к чувырле еврейской, к нему, она там, на лестничной площадке, сидит, золотце, на верхних ступеньках, ждёт, видимо, молокососа дома-то нет, смотрит, шалавушка, на меня исподлобья. Я ей говорю: «Впускать-то не хочет уже?» Молчит. Я, значит, специально потыкал в звонок, поохал, опять ей закидываю: «Может, кто появился уже?» Молчит, глазки сверкают. И пока не вышла из смежной квартиры соседка, мы так и сидели, ждали его величества чувырлу еврейского. Соседка с первого же взгляда всё оценила, и сказала, что вообще-то ждать-то не надо, там уже опять занято место, потому как такое приватизированное место пустым не бывает, а моя девочка на это взбесилась, накинулась на пожилую достойную женщину, расцарапала ей лицо, визгливо кричала, что дались этой соседке те мокрые спички, которые она до сих пор не вернула, что спичкам этим копейка цена, и пусть не завидует, потому что эта соседка как мочалка уже мокрая и век свой давно отмутожила, если по русский — отжила, ужасно мне стыдно было, насилу оттащил и увёл её. Возвращались опять через парк, идём по тропинке, красота нереальная, идём дышим осенней листвой, она почему-то лицом скисла вся, моё золотце, почему-то нос повесила, этот вопрос «почему?» я задавал себе всё время пока жила со мной моя милая, кто бы знал, как любил её, всё идёт носками кроссовок подковыривает землю, а то и в лужу специально наступит, не дай бог простудилась бы после недавней болезни, промочить-то ноги не долго, а быстро, всю дорогу её предупреждал, она похихикивала, бесёнок, на это, дома хвасталась мокрыми ногами, оставляла сырющие следы на полу, радовалась чему-то своему, безобразница. В тот вечер я решил сделать исключение, специально купил дорогие билеты на балет почти что в первом ряду, вообще-то ненавижу всё это оперы и балеты, особенно, если знаю, что там на сцене нет моей девочки, я так думаю — если уж ходить, то сидеть где-нибудь в последнем ряду, чтобы было удобней уйти, невмоготу когда. В тот вечер она так смеялась после этой прогулки, а для меня главное, чтоб не плакала, и я решил потихонечку сбегать купить билеты на этот балет про жизнь и про смерть, вообще-то я ничего в таких вещах не понимаю, но я подумал, что это, наверное, должно быть неплохо, особенно, с такими ценами для почти что для первого ряда, моя девочка как увидела билеты, глазам своим не поверила, опять называла меня «миленьким», все щёки мне расцеловала, так рада была, дома принарядилась как следует, меня под ручку подхватила, пришли туда, она каблучками цокает, в гардеробе покрутилась, посмотрела на всех, только потом на свой округлившийся животик посмотрела, и чуть-чуть расстроилась, покраснела даже, такая красивая стала. Представление началось, на сцене какое-то массовое столпотворение, все прыгают, рожи корчат, выскакивает какая-то лысая женщина и все падают-падают, потом спускается на тросе женщина с жёлтыми волосами, вроде как фея, и все встают-встают, я сижу понять не могу — это и есть балет разве, вот видели бы они мою девочку, когда она — раз, два, три — ножками машет, а они там по сцене валяются, машут вверх и вниз руками и называют это балетом, всё это думаю, посмотрел на мою девочку, вроде как — я тоже этого не одобряю, смотрю на неё, а ей вроде как нравится, сидит, вся предельно внимательная, даже вперёд наклонилась от напряжения. В антракте я увидел чувырлу еврейского, он шёл, видать, с той самой новой, я глазам своим не поверил, как можно было променять мою девочку на такое? Меня заметил, поздоровался со мной так вежливо, лживая рожа, поздоровался, чуть ли руку не пожал, и такой говорит мне: «Приятного вечера». Меня аж передёрнуло от этого его «Приятного вечера», я же знаю, что вечер напрочь испорчен из-за его вогнутой рожи, да и выражение лица у него, знаете было такое не особо приятное, как будто он мне прямо противоположное пожелал, а его новая мне так улыбалась как-то так подленько, словно этот молокосос ей уже где-то там все-все рассказал, как обманул, закрутил, обрюхатил дуру. И эта её мерзкая улыбочка, этой новенькой, меня в конец доконала, я сказал ему: «Пойдём, отойдём» Он побелел чуть-чуть, но пошел со мной. Эту которую ткнул носом в шею, что за идиотский жест, как будто нос вытер, она ему улыбнулась вроде как — да пошли ты его, но не послушал эту, пошёл со мной, побледнел, а всё равно пошёл со мной. Говорит: «Чем могу вам помочь?» Я ему: «Знаешь, где у меня уже твоя помощь?» Он почти шёпотом: «Это моя новая партнёрша, просто чудо, что я её нашёл». Я ему отвечаю на это, что мне собственно без разницы со сколькими партнёршами этот чувырла спит, мне главное знать, как он посмел привести сюда эту (эту!), когда я здесь с ней, которая носит его ребёнка под сердцем, хоть бы совесть имел, она после него в больнице, бедная, лежала при смерти, хоть бы цветочек принёс. Он на это мне говорит: «Это ещё не доказано, что моё, я откуда знаю, если она так запросто, может, она со всяким так запросто, а значит, это ещё доказать надо, и вообще, его ждёт вон там в стороне, по-моему, любовь всей его жизни». Я ушам не поверил, чудо, как сдержался, у меня желваки заходили на шее, он заметил, наверное, отошёл от мена на шаг, я отобразил это, конечно, и специально к нему придвинулся, он белый весь стоит и ждёт что дальше, та новая, видать, что-то сообразила, забеспокоилась, видать, решила прийти чувырле на помощь — окрикнула его: «Ты скоро?» Ну и мерзкий у неё голос же, чувырла сам аж поморщился, я порадовался, так, думаю, тебе и надо. А ему говорю: «Чтоб ноги твоей рядом больше не было, понял? Чтоб она больше тебя не видела, никаких тебе прав на ребёнка». Он кивнул. Я опять: «Сейчас, — говорю ему, — сейчас бери эту свою, бери и иди по партеру да помедленнее, и чтоб громко говорили при этом, чтоб она увидела всё, понял, что имею в виду?» Он кивнул. Хорошо шёл, медленно, и эта его новая которая так хохотала старательно, что там, по-моему, все заметили и понаоборачивались. Моя миленькая, вся обомлела, сидит, не дышит, глазёнки свои широко раскрыла и смотрит-смотрит. Я спрашиваю её: «Куда это у тебя глаз косит, родная?» «Миленький, — отвечает, знает мои слабости, даже специально повторила это слово для меня, — миленький, я просто посмотрю». Смотри, смотри, думаю, посмотри, да всласть насмотрись, чтобы больше не захотелось. Посмотрела. Так второе действие и сидела с широко раскрытыми глазёнками, только уже как будто не видела этого балета, а мне почему-то второе действие больше понравилось, там больше балета, там обе девушки — лысая и с жёлтыми волосами наконец-то тянули ножки — раз, два, три — а не ползали по сцене как полудохлые мухи и не махали уже руками бестолково. Но всё равно, ушли мы домой быстро, она торопилась так, я наоборот хотел прогуляться, а она понеслась домой. Я всё опасался, что она опять по возвращению расплачется и потом разболеется, как это у неё уже часто бывает, а она ничего, пришла ужин сварила, посуду помыла, книгу почитала, даже вспомнила какую-то смешную историю — мне рассказала, я не мог нарадоваться, слава, думаю, богу, что так всё легко осозналось в её светлой головушке. Если бы потом — только хуже всё могло быть, я знаю, а так его нет и ладно. Пройдёт. Пройдёт, вот правда пройдёт, пусть, думаю, только немного потерпит, моё золотко. А через день она куда-то исчезла. Не звонила, не писала долго. Молчание. Я обзвонил все больницы и морги области. Нет её. Ходил каждый день к чувырле, сидел на лестничной площадке. Нет её. Молчит звонок. Молчит телефон. За окном замолчал давно чей-то ребёнок. Тишина. Ночь осталась только. Город тихонечко как улей жужжит. Нет её. Тихо, тихо. Капает вода из-под крана. Нет её. Остался только в памяти её тот смешной рассказ, который она рассказала тогда. А её самой больше нет. Нет её. Я прождал неделю, слушал, как жужжат пчёлы в городском улье. Я прождал неделю и почти привык к тому, что её больше нет. Через неделю, когда в комнате забелело, я услышал, как хлопнула дверь в коридоре, я на ощупь, на звук дошёл. Она похудела, синяки под глазёнками, щёчки впали, ручки стали как тростиночки, худенькая вдруг вся, а глазки сверкают. Смотрит на меня с издёвкой, что ли? Одна вернулась. У меня даже голос пропал, я хочу обо всём спросить, а не могу, потом выдавил, наконец: «А где?» Молчала долго, смотрела исподлобья, потом говорит мне: «Где-где-где, не понятно, что ли? А ребёночка-то больше и нет». Она вдруг забилась в угол, запричитала в этом углу: «Прости меня, миленький, прости, я не хотела, вон оно как получилось, получилось оно». Да за что же ты так? Я сел и заплакал. Мне кажется, это была не родившаяся девочка. Если бы она родилась, я бы отвёз её на моё любимое поле из подсолнухов, на этом поле виднеются высоко одни кусочки неба сквозь стебли. Если бы это девочка родилась, я бы поднял её над головой, и она вмиг бы стала самым богатым ребёнком на свете, потому что только ей бы одной принадлежало именно сейчас это золотое поле под синим — пресинем небом. Ещё я бы показал ей аэроплан, летящий в этом бескрайнем небосклоне. Она капризничала бы, щурилась бы от света, поэтому я подарил бы ей ещё обязательно солнечные очки с зелёными стёклами, с синими-то неинтересно, и благодаря этим солнечным очкам, благодаря всему этому, она смогла бы рассмотреть смешной аэроплан и, может быть, пилота рассмотрела бы в этом зелёном аэроплане, всё это смогла бы сделать она сама, моя маленькая неродившаяся девочка, правда только, если бы родилась. Об этом обо всём сидел я и плакал. И вот, через несколько бессонных ночей, она, вдруг, собралась погостить у знакомой, я её знаю, эту девочку Таню, она приходила к нам в гости, так вот, собралась к этой знакомой поговорить о своём наболевшем, спросила разрешение, оставила мне на всякий случай телефон, я понимал, конечно, что ей это необходимо, в виде исключения, проверил, конечно, позвонил знакомой, мало ли, что может случиться, Татьяна подтвердила, и вот выясняется, что всё ложь, выясняется окончательно через несколько дней, Татьяна сказала потом, не поняла тогда вопроса, думала — я имею в виду другое что-то, выясняется, что моё золотце почему-то ушла, ушла, сбежала, сякая шалава такая, бросила, бросила, сбежала так подло, так мерзко, ушла от меня. Ты говорила, что моё сердце ожесточилось, пеняла, но мне кажется, это нормальное свойство живого сердца, сердце имеет право само решать навсегда таким быть или хотя бы на какое-то время, ему, сердцу, нужно после всего этого как-то дальше биться уже для себя. Я хочу, чтобы ты это всё каким-нибудь образом услышала. Пусть тебе всё это приснится. Когда-то твоей матери я пообещал, что помогу тебе о себе забыть, и после её смерти я выполнил своё обещание, я помог, ты забыла и ничего не заметила. Слава богу, что не заметила, я сделал это только ради тебя, моя девочка, только ради тебя. Я обещал это очень давно, ещё перед тем, как мы с ней разошлись, ещё перед самым твоим рождением. Я выполнил своё обещание. Ты забыла. Забыла меня. Всё забыла. Так лети же. Лети высоко. Старайся. Бей ногами по облакам. Доставай и взрывай звёзды. Лети. Целую твои щёчки. А я тут постою внизу. На своём десятом этаже постою. Посмотрю на тебя. Лети. Молчание. Не видать. Поди, улетела. Улетела. Улетела куда-то моя райская птичка. Уплыла. Уползла от меня почему-то. Ни за что не вернётся, я знаю, теперь ни за что не вернётся. Будь же счастлива. Моя лапушка. Мой чумазый воробушек. Моя ясная. Дочь.
КОНЕЦ
Август, 2012
2. «Руфь»
Руфь. Сы́нушка, мой Але́ко, меня легонечко тюкнул, пришиб немножечко, я упала, ушиблась чуть-чуть о краешек острый стула нечаянно, выдохнула, присела, сижу на полу, дышу, смотрю на кровинушку, любо, рослый, статный он у меня, весь он в таёжную ро́дню, думаю, как же так у меня получилось, что под кулак, неуклюжая, подвернулась-то, люди скажут что с этого, будут смеяться, тыкать, наверное, стыдно, если узнают, вон оно как.
Кидай-ка ещё, мази́лушка, пентюх, эй, с балкона ты, пень ты пень, слышь меня, ась не ась? Кинь-ка мне туфлю размера сорокового, две штуки, понимаешь ли, мне надо очень, мне чтоб с подследником влезала бы, с подследником, слышишь ли нет меня, а почему это нет? Злится, говорит мне чего-то, лапоть усатый, такое, чего, чего, куда мне пойти, а зачем, а с чего ли, а чё такого сказала, я не поняла, а почто обозвал девицу, а почему я старуха, ты на меня ли, косорылая рожа, смотрел? Правда это, правда тебя режет, глаза бесстыжие режет, чтоб их крысы поотжирали, вот попомнишь мои словечки, мои закорючки, правда тебя зарежет, и не старуха я вовсе, разбрюзжался мне тут, раскидался, ага. Тебе чё тут помойка что ли вообще, я не поняла? Повтори, нет, ты повтори, нет, ты за слова ответишь. Я вот сейчас доложу надо кому, знамо кому, дворнику, потом сам разбирайся, тебе геморрой нужен-ка нет ли вообще, а вот устрою тебе геморрой. Ни чё не знаю, на земле валялось, не подписанное, засранное, значит, ничейное, а раз ничейное, значит, моё будет, это я обронила вообще туфлю тридцать пятого размера, господи, как это носят-то — носят ли? — ну-ка, родимый, ну-ка, кинь-ка ещё, давай, кидай, давай-давай, не жлобь — ну-ка! — кошмар какой, ужас, кошмар, это на кого же, это за что же такое-то, вообще, не понять. Вот от такого же пе́нтюха, как на балконе, родила я Але́кушку — сына. Страшно-то, страшно как здесь-то одной, в городище этом, чудище каменном, душно смотреть на таких вот усатых, таких на балконе в трико с лампа́синой, на ихних этих самых дочурок, таких прилизанных, таких напомаженных, на которых невозможно спокойно смотреть, так бы и плюнула прямо в лоб ей, я ведь плюнула в неё, когда она мимо прошла, его дочурка, прямо в спину ей плюнула, я ведь её видела, как она смеялась прямо в глазки этому мальчику, ему смеялась прямо в воспалённые глазёнки, а он, этот еврейский мальчик, на этой самой лавочке плакал всю ночь, потом сгинул куда-то, вы же не видели, страшно, страшно-то как от всего этого. Ты бы, мазилушка, вниз бы ко мне приспустился. Мы бы пожили вдвоём. Мы бы пожили, давай, для компании, застеснялся что ли, спрятался, слышишь меня, давай-давай, спускайся, не трусь, Марусь, авось не укушу. Вон оно как, гляди-ка. Плюнул в меня. Вон он какой, мо́лодец. Вот спасибо тебе за это. Облагодетельствовал. Вот тебе по самую землю-матушку кланяюсь. Вот тебе поклон по самую. Ни чё, не гордые, вот тебе кланяюсь по самую рожу к земле. Вот и добро человеческое вам. Потухли глаза, высохли груди, сердце остыло. Вот посмотри на вот этого, землюшка, как не стыдно тебе, как такого только носишь. Вот, на, бери, матушка, кланяюсь в землю. Вот он только тебе, для тебя — мой поклон. В этой самой земле потеряла серёжку, мимо крыса бежала, ту серёжку прихватила, унесла, а куда, крыса мне ничего не сказала, не знаю, сказать не могу, я вторую серёжку сниму, сама земле подарю.
В семье-то нашей жили мы там. Там. У тайги. У речки Машутки, так мы её называли, истеричную кормилицу нашу, когда разливалась, то в центр как приспичит, то надо дожидаться аж вертолёта, некоторые ночевали с ночи в тайге, мест-то у том вертолёте пятнадцать — не больше, а в центр-то надо, там аэропорт один раз в неделю с самолётами, все деловые, некоторые не верта́лись, всем надо до больших самолётов, да и вообщем-то в центр-то ведь надо, а то совсем, если долго, тоска у Машутки брала. Можно было ещё в сплавь на пароме, мы с мужем так бывало в сплавь дня три и на месте — а что? — машину приставить под навес главное чтоб, и главное в этом деле, во-первых, приодеться теплее, а потом еще прихватить припасы на сутки, за чем же делов-то у меня стало, морду причесала, в погребь слазила, консерву затарила, да и едь себе с богом, да на при́степь смотри. Поле. Тоска. А звать меня Лизкой, но муж больше кликал Лизоном, и сын, потом даже мне стало по нраву так быть, в привычку ли, так в посёлке-то нашем и прижилось. С мужем встретились быстро мы, прожили долго, вот так вот пришёл он, и я прямо присел, то есть на утро уже борщик прикушивал, и я ,прям, почувствовала, в животе развернулось всё, и я, прям, оно самое прочувствовала, моё это, странное, долгое, сладкое ли. Вот так-то это и прижилось. Вот так вот нажили Але́ко. А вот ведь прикурят они, я теперь городская женщина уже, вот ведь прикурят наши бабёнки-то у меня. Мне бы на лица их бы да и посмотреть, на эту Шурочку-Шурку-Шурень, брехала — дальше своей калитки-то я и не уйду, а вон оно как, накуси-выкуси, чего брехала, чего лаяла, а тут ведь я, вышла, да подальше калитки ушла, а она ли где? Там, со свиньями, с козами, с курами, я ведь теперь-то, Шура, уже не та, вот пускай с огонька и прикурит она у меня. А другая я. Я теперь лучше.
Сын показал мне как-то такие подвесульки на шею, птички две, два голубка, голубок с голубицей, вроде как, надо их своей второй половинке сдарить ли, и значит того, с этой половиной своей в одно время носить, вроде как, это такой символ верности, пояс такой верности, трусы железные, значит по поселковому — застолбил так девку, сы́на сказал, это подарок ей, этой зазнобе сердечной, девушке любимой, оттуда она, на́шинская поселяночка, счастлив был до слёз, хоть оторопь брала, щеночек мой, я благословила даже, счастлив так был. Потом уже, у после его похорон, когда Але́кушку земле отдарила, потом уже веточку, еловую веточку оторвала я, оторвала и его голубка на ветку без голубки навесила, что ж я без веточки еловой нелюдь что ли, думаю, под Рождество, оторвала и навесила, к веточке две фотографии приложила, его и свою, что ж он будет, думаю, один под Рождество, не по поселковому, не по нашему, ох, воротись бы муж домой целый да живой, ох, он бы над этими голубками бы посмеялся, хороший он был, я так с ним сама смеялась, спасибо за этот смех ему, помню, голодали когда, вместе вдвоём воробьёв снежками доставали, помянуть теперь любо. Ну не жалкая же она самка, Алёна, наречённая его! Любила ведь! Врала, но и моего сыночка любила! Любила. Замуж собиралась, дня ждала этого, мы с Шурочкой-Шуркой-Шуренью думались повенчать их по весне, нарадоваться не могли, сы́ночка сам так свадьбы ждал, дни по календарю отсчитывал — да где ж это видано такое, чтобы свадьбы так мужчина ждал? — щеночек мой, на ручках её взлелеял, свою невесту, Алёну эту, пылинки сдувал, весну торопил, закопали её мы с сыном ночью в дальнем лесу, эту Алёну, ранней весной. Я по тропинке с сыном уходила когда, когда Алёну запрятали, спросила сына, стоило так делать ли, может, забылось бы, опять слюбилось бы, не жалко счастья отданного, сы́нушка подумал и признался, что чувствует действительно теперь по ней тоску и что-то вроде жалости, сам будто неживой, весь тёмный стал, даже не плакал.
Мазилушка, ты бы ко мне приспустился, пожалуйста, грустно мне сегодня почему-то, ты бы ко мне сошёл, пожалуйста, вот тут, вот тут под рёбрышком прищемило, а почему щемит, я не знаю, мазилушка, мне по ночам, здесь, на этой лавочке, снилась какая-то женщина, зачем ли она снилась, я понять не могу, просыпаюсь ночью под мокрым небом, она у головы стоит высокая-превысокая, раздутая, стоит и улыбается, мазилушка, это она за мной увязалась, это какая-то женщина пришлая, я по дорожке с сыном из посёлка уходила когда, она в дороге за нами и увязалась, просыпалась когда на лавке, ругаю, рукой машу-машу, гоню-гоню, а она не уходит, хмурится, головой качает, сходила тогда свечку поставила, исчезла вроде теперь, домой верта́лась, поди, пусть её, бабу чужую, ведь отогнала же главное. Не слушаешь меня ты, пень ты пень, не слушаешь, о чём таком-то важном задумался, я понять не могу, что там такое у тебя может быть важное, я понять не могу со своими тремя поселковыми классами, ты прав, куда уж мне до тебя-то. Мы быстро с сыном из посёлка съехали, в посёлке поняли всё, по божески всё поняли, так тёмен стал Але́ко, так волновалась за единственного родненького сына я, все поняли, когда Алёна исчезла, с цыганами сбежала, у нас по поселковому неприглядное это, жалели стыдное, да что уж тут, сама невеста виновата, как говорят, что было то было, как говорят, теперь-то что уж тут, перекрестили с сыном всех, нас тоже окрестили, да с богом с сыном съехали, хотел так он обрезать пуповину, хотел так съехать из посёлка вон, вон от рассветов, вон от реки Машутки, от запахов земли, вон из тайги, куда ж я без него, а значит, с ним и я, и я сюда.
Когда сы́нушка, мой Але́ко, меня легонечко тюкнул, пришиб немножечко, когда я упала и ушиблась чуть-чуть о краешек острый стула нечаянно, выдохнула и после присела, когда села на полу, задышала, всмотрелась в кровинушку и подумала — любо, рослый, статный он у меня, весь он в таёжную ро́дню, когда озадачилась — ну как же так у меня получилось, что под кулак, неуклюжая, подвернулась-то, когда вспомнила, что люди будут смеяться, тыкать, стыдно, если узнают, тогда мне захотелось обратно к Машутке уйти и тихонечко там себя в той тайге затерять, вот до чего оно, вон оно как. Але́ко поменял замки в нашей съемной комнатке, я не смогла зайти, читаю записку, в двери была записка та, на листочке в линеечку читаю написанное, глазам своим не поверила, похоже на его почерт-то, с красной строки всё: «Мама, я замки поменял. Мама, я по делам уехал. Мама, чтоб твоей ноги здесь больше не было. Так надо. Люблю. Прости». Я прямо там как-то так боком падать стала, повалилась на пол как-то так, осела, очнулась, рядом по комнатам соседка, Капиталина Семёновна накормила меня, а заночевала так я так же у ней-то, всё ждали, что сы́на придёт ли, я ему подзатыльников бы понадавала бы, за уши понатаскала бы, как отец раньше бывало часто по делу и просто потому что любит, как же так, где же видано ли это, проворочалась ночью, хоть бы в одном глазу сон был, все бока отлежала той ночью бессонною, утром чайку попила и в подъезд съехала, на шее сидеть не в привычку мне, Капиталина Семёновна стул мне дала и книжку, вещи же все мои заперты на замок в той комнате, всё болит, присела у батареи в подъезде, а сы́нушка, мой Але́ко, всё не идёт, по делам, значит, куда-то съехал, читала «Тараса Бульбу», глупое там такое всё, не по-нашему, больно невысказанное, даже плакала, так в подъезде с недельку и прожила.
Ловлю, сы́на, ловлю, в ручки ко мне падай, в ручки, словлю я тебя. Помнишь, как в те морозы под пятьдесят, здесь-то метель — не метель, сквозняк один, а в ту вьюгу, ещё когда мы с тропинки сошли, ты тоже боялся в сугробы упасть, ты всё боялся там кто-то живёт в этих сугробах, какие-то чудовища ли, я до сих пор-то помню, смеюсь над этим на этой скамейке, вспоминаю своё счастье это, я тебя за ворот придерживала, только бы не поскользнулся, не упал бы ты, ещё и умудрялась закрывать твоё лицо варежкой от ветра, её тётя Шура ещё связала из начёсанной шерсти кошки, у меня рука чуть не околела от холода, я думала — всё, отпадёт точно как видела в телевизоре, спиртом своим отец растирал, я её не чувствовала руку эту с месяц, как же я испугалась за тебя, на потеху лешему ли мы сбились с тропинки, да, наверное, в тех сугробах на потеху лешему заплутали вдвоём, ни одной лыжни не было, счастье моё это, а ну-ка, вспомни-ка, сы́на, как с мамкой проблуждал по тем сугробам в тайге. Ловлю, сы́на, ловлю, закрой глазки своими ручками, своими ручонками, не бойся и падай, не бойся, обещаю, словлю я тебя. Скучал, видать, по ней-то, поди затосковал-то, закопали Алёну с её голубкой, Але́ко сам так решил. Я — мать. Моя любовь оправдывает не всё, но многое. Не бойся, глаза закрой, маленький мой, словлю я тебя. Я. Мать. Мне снится это, тот момент, когда Але́ко с крыши прыгнул.
Проводили сына быстро, денег особых у меня не было, в основном всё давала-то на похороны Капитолина Семёновна, доброй души человек она Капитолина Семёновна, вскрыли пассатижами комнатку, я тёплое собрала для себя, всё остальное Капитолине Семёновне оставила, мне зачем ли, ей-то хоть бы за венки хотя бы отдать — стол, стула два, раскладушка, диванчик и телевизор советский — всё Капитолине Семёновне для сада подходит, всё что Але́ко нанёс, мне зачем и куда, с того что осталось, думаю, хватит мне одной сумки хозяйственной, мне то зачем, главное для меня, проводили сынушку по человечески, без слёз, по-нашинскому, без тоски, по таёжному, Я неделю после всего того ещё у Капитолины Семёновны пробыла, потом на скамеечку сюда да и съехала, на шее сидеть не в привычку мне, Капитолина Семёновна подарила мне книжку новую почитать «Три толстяка», глупое там такое всё, не по-нашему, больно невысказанное, даже плакала, так на скамеечке-то и живу теперь. Всяко было, такое впервые. Бегают жирные крысы, я видела, собственными глазами видела, штуки две, сама видела вот этими своими глазами, как эти две твари спокойно переходили дорогу, и ничего, все спокойные, ничего не случилось, это нормально, когда вот так по улице вот пешеходной проходят помойные крысы, по самому тротуару, я в ужасе, я в диком-диком ужасе, я в этом живу. А всё оттого, что в соседнем доме вся помойка засрана, полная уже как месяца три ли, и никто, никто из жильцов, ни один человек не замечает, как будто бы в этом месте тоже вот никто не живёт, я в ужасе, можно ли жить спокойно в доме, почти что в квартире, когда где-то рядом живут помойные крысы, я в диком ужасе. А всё оттого, что такие вот мазилы кидают с балконов сдвоенных ненужное, прямо кидают с балконов, и не стыдно таким вот ни капельки. А ну-ка, кидай-ка ещё, мазилушка, пентюх, кидай-ка ненужное, мне надо очень, мне надо срочно, на эту скамейку кидай всё ненужное, мне всего да побольше надо, скоро похолодание, осень скоро, мне очень надо — платья, перчатки, юбки и блузки — кидай мне еённые вещи, на них присмотрюсь хотя б я, мне всё пригодится, всё это ненужное, отдай мне ненужное, мне, мне, только мне, ведь тебе же без разницы, её всё ненужное, отдай, тебя ли я очень прошу. А он, этот пентюх, делает вид, что ничего вот не видит, вот не слышит он, что я тут кричу ему, лешему пофигу, ему трын-трава, в небо нос вот задрал только, принюхался что ли, собака он что ли? Мне говорили — он ей ногу отрезал, вот не сойти мне с этого места, если это не так, сколько тут я сидела, а сидела я долго, более непонятного лешего, давно не видала, а скольких этих леших на своём веку перевидела, да во сне перещюпала стольких, сказать страшно-то, могу сказать точно одно, все на одну рожу, на одну небритую рожу. Лешие эти обитают в квартирах, гнездятся в грязных квартирах, спят, прям, немытые, потому что им пофигу-пофигу, а их дочери так напомажены, и так прилизаны, что не видели бы глаза их мои, правильно, что он отрезал ей ногу, по заслуге получила, вот правильно он, заслужила это доченька то, надо что, ей на пользу то. Все говорят, мне говорили, соседка мне говорила, она своими собственными глазами видела, как дочурка эта уползала ночью на одной ноге, и кровь капала-капала, а операцию ей, той соседке, уже сделали от катаракты, значит, соседка эта видела всё, что и было, значит всё это правда, я знаю, я верю, а вообщем-то пофигу.
Вообщем-то, в его сторожке они стали притираться вообщем, я смотрю, муж-то мой носки сменяет, каждый день сменяет, значит, стирки впустую мне задаёт, значит, он сменяет, и всё такой счастливый в окошко жмурится, да поглядывает. Я ему — чё ты кот что ли кастрированный, чё ты щуришься по мартовскому как-то, как кот-то уже скастрированный-то, нечего тебе щурится, лучше забор вон стоит весь покосившийся, у нас весь двор нараспашку, вон туда посмотри-ка, там в капусте козел, наверное, уже сидит, ага, сидит-сидит, на тебя похож, тебе спасибо козёл говорит, иди вон забор почини, нечего тебе щурится без нечего делать-то, иди вон забор починяй, да покрась потом, дел давно невпроворот-то в доме, а я тебе не нанималась, говорю, всю жизнь-то свою горбатить, гробить на тебя, говорю, значит, слушай меня, прослушай почту и запомни, не служанка я тебе, иди вон, ищи себе малахольных, если надо, которые и служанками будут тебе, и ещё кем-то чем надо, которые и станцуют, и раком присядут, не служанка тебе я, понял, нет меня? Сидит, он щурится, блин, обалдеть, прям, да если бы я маму свою, царствие ей небесное, свою маму, мудрейшую женщину, послушала вовремя бы, да прокатился бы ты, козёл, мимо меня полем, да без капусты, а я бы молодая да красивая, чё ты ржёшь, кадык выпадет, рот закрой, да — молодая и красивая, в меня полпосёлка понавлюбленные были, пока ты, козёл, не припёрся бухой на ночь глядя, и не прижился в доме моём в подмышке у меня. Нафига мне это вообще надо, с утра до вечера, гробишь-гробишь себя, работаешь как прокажённая, ни дня без продыху, да зачем мне это вообще всё, да гори оно синим пламенем, да пошло оно лесом-полем мимо меня, мимо всей жизни моей, да я ещё молодая, да я ещё смогу начать всё сызнова и без тебя, козёл огородный. Прижился, блин, гриб поганый, блин, да без меня ты вообще никто, валенок ты без меня, оборванцем пришёл, оборванцем и уйдёшь отсюда, всё как было — понял всё? понял меня? — щурится он, блин, как уже скастрированный мартовский котяра.
Муж встал и на меня замахнулся. Маленький Але́ко заплакал. Я упала на пол. Ударилась больно. Что-то в груди сдавило вот тут, и в глазах причернело от этого, вот тут под рёбрышком что-то, прости меня, дуру неразумную, старую, не со зла я, прости, смотри, сыночка наш заплакал, смотри, сыночка видит, что мамка-то не права, понимает, что мамка его неправая. Я ж не от сердца всё, это так, притемнело у меня, прости, а хочешь пирогов, давай сейчас, прям, настряпаю нам, с картошкой, с капустой, всё как ты любишь, хочешь, я настряпаю, я наделаю всё, что ты любишь, любименький мой, устроим праздник, пир горой, да назови сюда весь посёлок, я слова тебе не скажу, имеешь право, ты тут хозяин, в этом доме своём, ты тут хозяин и муж мой, супруг.
Муж замахнулся на меня, потом на улицу вышел. Я лежу на полу. Я смотрю в потолок. Я случайно заглянула куда-то выше. Я лежу на полу. Страшно-то как, ой, страшно как мне, люблю я осень, с такой мокрой дорогой, с таким запахом жжённым листвы, сырым таким, когда листочки слипаются, и получается красно-жёлтый комочек влажный, люблю такую осень в нашей тайге. Люблю тайгу — помню подберёзовики, их я только и отличала, ещё лисички, и ещё помню пресладкую чернику, тут в лесу такой нет, та черника, ягодка та, которая лопается на кончике языка, от которой все руки липкие. Мой муж был лесник, всё знал, что где, был знаток, лесник, с ним таким не пропала бы ни за что в тайге-то, как за стеной ли я была там, тайге, муж мой был на расхвати-то у всего посёлка, добрый был, лесник, а сколько ж с этой доброты проливала слёз я, сколько упрёков понавыговаривала, сколько раз в постели смерзала, сколько раз в доме по ночам одна оставалась, за то, что не шла по мужним речам, шея не сгибается, не разгибается, кивнуть даже столько раз трудно ж мне. Я лежу на полу. Я смотрю в потолок. Я случайно заглянула куда-то выше. Маленький Але́ко подполз, и в мою подмышку зарылся. Да так и уснули мы.
Утром, пока Але́кушка спал, я дошла до сторожки мужней, заглянула в окно, там, на полу его голова, а в егонной подмышке эта хохлушка, пришлая, чужая, зачем пришла, уходи, уходи, зачем пришла, зачем осталась, домой уходи, чужая женщина, пришлая. Она у головы моей стояла высокая-превысокая, раздутая, стояла и улыбалась, скалилась, это она за мной увязалась ведь, та это самая, это та женщина пришлая, ещё когда по дорожке с сыном убегала-то, она в дороге за нами и побежала, просыпалась когда на лавке, ругаюсь, рукой машу-машу, гоню-гоню, а она не уходит, хмурится, головой качает, я ещё сходила тогда свечку поставила, исчезла вроде теперь, домой верталась, поди, пусть её, бабу чужую, ведь отогнала же главное. На посёлке тем вечером временем тем бабы-то увидели синяк по лицу, точёный фингал, увидели на глазу припухлость-то, компресс такой, увидели и заулюлюкали, Шурка-Шурочка-Шурень, драная кошка, засмеялась в голос, заржала всеми кишками своими нараспашку, заголосила наружу на меня — и до тебя дошло, моя милая, долго ж берёг харю-то твою! — заголосила Шурочка-Шурка-Шурень, кошка драная. Хохлушка тоже зашла в магазин, прикараулила, купила колбасы докторской, сыра обычного, обнаглела, с зарплаты пришла, молодец, наработала хорошо, ублажила, видела я, платочек ситцевый, яркий у ней, новенький, моему, из синтетики, где-то лет пять, живёт одна — а на что живёт? на какие средства? — в доме добротном поселилась, наши же мужики ей строили, в доме моём крыша течёт (хоть бы кто!), припёрлась, на какие средства она живёт одна в доме хорошем? Вечером муж, вдруг, зашёл домой, поесть захотел, спросил — всё в порядке ли, меня он спросил, соизволил, выпить налил, устал, хорошо наработался, говорит, дел по тайге невпроворот, говорит, тайга при́глядку за ней любит, в тайге дереву-то каждому счёт, ночью, сказал, ночевать не будет, рано пойдёт до Машутки, нужно беречь — река что женские косы, дел у реки невпроворот. Страшно-то как, ой, страшно как мне, запёрла на замок я ставню, муж хорошие замки прикупает, он знаток, с ним таким не пропала бы ни за что я в тайге, муж мой был на расхвати-то у всего посёлка, добрый был, был знаток, я любила его тёплые руки, я любила, я запёрла, я прикрыла дверку на замок ночью же следующей, крепко подпёрла поленьем эту дверку, а загорелась сторожка с керосинца-то быстро. Вечером муж, вдруг, зашёл домой, поесть захотел, спросил — всё в порядке ли, меня он спросил, соизволил, выпить налил, устал, хорошо наработался, говорит, дел по тайге невпроворот, говорит, тайга при́глядку за ней любит, в тайге дереву-то каждому счёт, ночью, сказал, ночевать не будет, рано пойдёт до Машутки, нужно беречь — река что женские косы, дел у реки невпроворот. Ой, той же ночью сон страшный приснился-то мне, будто дошла в ночь ли эту до мужней сторожки, будто запёрла-то ставню-то на замок, прикрыла дверку, и поленцем крепко-то подпёрла-то будто эту дверку, а потом с керосинца-то мужнего загорелась сторожка деревянная быстро. Грех-то какой.
На посёлке в день следующий, ту хохлушку драную я поймала у нашего магазина, тощая (смотреть тошно-то, хоть бы где, хоть бы что на ней выперло б!), сорвала с неё ситцевый платок яркий, прикрывала-то ярким платком девка эта, как оказалось, пакли на башке своей, вот тебе и жар-птица, блин, птица-невелица, да воробей ощипанный она, блин, прикрывалась-то ярким платком она, смотреть тошно, дрожит, испугалась меня вся. Чё повадилась ли, говорю, на чужую мельницу, чё прижилась, крыса поганая, навалять бы тебе ли, говорю, да под зад тебя из посёлка ли. Бабы ржут, бабам-то потешное. Крыса эта плачет, сжалась вся, смотреть тошно, а я хоть бы пальцем её, прикоснуться противно, грязь. Бабы ржут, да пусть, говорят, обслуживает, нам покойно, за детьми можно походить, отоспаться, да не отмываться в бане, то заколебались, да пусть её, говорят. Как же не отмываться, говорю бабам, я откуда знаю, что в неё уже понатыкали? Бабы ржут, говорят, не боись, Лизон, банный день устроим, а вообще, у нас всё под контролем, мы ей мимо нашинских шаг ступить не дадим. Крыса эта плачет. А плакать-то теперь уж что? Муж вечером опять домой пришёл, орал как боров. Пришёл домой, и ночевал дома даже, футы-нуты, приспичило, соскучился-таки. Я прям оглохла. Але́ко отправила к Шурке от нашего греха. Сама спать слегла пораньше. Думаю, приляжет, нет мой? А он, припёрся вхолостую, скотина такая-рассекая, бухает за столом и гадит в спину:
— Да, ты, сечёшь ли, корова, что обидела, плюнула в душу хорошему человеку? Ты понимаешь, что это святейший человек, чистейший там человек живёт? Ты понимаешь, корова, это у неё так обстоятельства сложились, что она здесь вот, с нами, в этой полной жопе оказалась? А куда, а куда ей деваться было? Вся наша страна огромная-преогромная жопа. А по опыту моему многолетнему, полная жопа настанет и всем остальным, а только мы в тайге останемся, до нас не дойдёт. Она осталась одна, моя девочка, совсем одна, никого у неё нет, кроме меня-то. Ты знаешь, знаешь, что она мне рассказывает? У неё, прикинь-ка ты хоть на минутку, был щенок, я охереваю, друг её, настоящий породистый щенок, который жил вот в обычной будке, как у нас в посёлке, в обычном доме жи́ла она тогда и не тужила, и вот однажды он, щенок, корешь её закадычный, то есть, взял да и исчез. Сечёшь? Свистнули на пирожки, башку бы им за это проломить. Вот ты бы что? А ей травма на всю её жизнь, сечёшь, что я имею в виду, нет? Ей травма на всю жизнь, она над этим плачет, сечёшь, плачет, а не ржёт как ты. Да я за это…. Да я за эти слёзы её такие, да я…. Да чё я тебе, корове, пытаюсь то объяснить. Ты сама, когда-то плакала, дура набитая? Стонать только умеешь, нифига ты больше не сечёшь, мозгов не хватает, нифига ты не сечёшь, тупая ты, корова, как пробка. И этот упырь мелкий, кровосос, приблу́дка твой, не моё это, кормлю даром, сын твой такой же тупой весь в тебя. Люблю её такую, одну её такую, настоящую, когда у неё росинки на щеках не высохли ещё. Да ни одна из вас, подстилок таёжных, коров толстозадых, её мизинца не стоит. Вот заткнись и лежи здесь, поняла, рот свой поганый закрой и даже не смей вякать на неё, иначе я тебе башку проломлю, сечёшь, тупая корова, что говорю, нет или всё-таки да?
Значит, всё это супруг мой выговаривает, а я лежу, значит, опять в фиге полной и подозрение у меня возникает, ощущение у меня такое какое-то. Да ладно, что уж тут, обычное это, житейское всё это, наше таёжное, везде одно всё. А через неделю где-то муж мой не воротился. Я долго выла. Исчезла эта тощая хохлушка, с Але́ко нас переселили в дом к ней, по справедливости считаю, хорошо там, пахнет новым, бабы почему-то, значит, косятся на меня, усмехаются, а чего исчезла, испугалась что ли эта хохлушка, я что зверь ли? Я же пальцем её не тронула, бабы же видели это, стояли рядом, так чё ж трындеть-то, почём зря зубья скалят только, потешное всё им. Старички-то уговаривали схоронить, если не вернулся, значит, сгинул, уговаривали обряд провести по мужу, захоронить впустую, чтобы плакаться было где. Я ни в какую. Им бы, старичкам этим, только кого захоронить ли. Ох, воротись бы муж домой целый да живой, ох, он бы над этим всем посмеялся бы. И я бы, конечно, поржала с ним. Ждала всё. Долго ждала. Развели нас от брака официально. Потом встречалась с Гришкой, не по серьёзному, а так, надо было от тоски в тепле побыть, а замуж больше не хотелось. Не хотелось больше туда. Да ладно, что уж тут, дело-то житейское, только Але́кушку, пока подрастал он, было больно жалко, безотцовщиной-то стал мой сы́на, не виноватое дитя же в том, да ладно уж, везде одно всё. Мазилушка, что ж ты плачешь-то, милый-родимый, не надо, смирись-ка — тряпка! — лапоть ты, лапоть, лопух ты, нет её больше, нашёл по ком плакать, не по ком, её давно нет. Что-то устала я, ты бы ко мне приспустился, пожалуйста, грустно мне очень, вот тут-то под рёбрышком тёмное, прищемило-то, прищемило меня тоской, а что делать с ней, с этой тоской не таёжной, делать что — что? — что-то устала я. У нас вот в тайге, у нашинских, принято, уходит когда кто, печь пироги и песни-то петь, легче спится так после. И вот, когда я отлежала своё ночью у гробика сынушки, монетками уже обложила, выложила чёрный лоб его, тогда мне стало так тоскливо, не по таёжному, что спекла пирог с капустой. Я спекла пирог с капустой, наварила разного, вышла на улицу вечером, там месяц в небе, одна звёздочка яркая, остальные померцивают пока только. Встала в ночь ту я на дорогу, смотрю на красивое, поклонилась землюшке, людям поклонилась в землюшку, о тоске рассказала тем людям. А люди как люди, хорошие, по-нашинскому люди смеялись, шутили, хорошие люди, шутили по-нашему, по таёжному, ели пирог с прибаутками, говорили спасибо. Я кланялась людям тем, рассказала им, что тоска не таёжная-то прищемила у гроба сына, ночью привиделось мне, приснилось-то ночью, в тайге мы в лето идём, душно, жарко, пари́т, по дорожке с ним мы идём, а он маленький, сынушка мой, вдруг, сказал — ему холодно очень. А отогреть-то не получается у меня. Лето, душно, жарко, пари́т, на дорожке с Але́ко стоим мы, грею-грею, в платок кутаю, всё говорит он — ему холодно очень. Вообщем, ночью той, смотрю на красивое я, там месяц в небе, одна звёздочка яркая, остальные померцивают пока только, поклонилась землюшке, людям поклонилась в землюшку, о тоске рассказала тем людям, люди как люди, хорошие, по-нашинскому люди смеялись, шутили, хорошие люди, шутили по-нашему, по таёжному, ели пирог с прибаутками, говорили спасибо. Мази́лушка, не вернётся она, что ж ты плачешь-то, пентюх, милый-родимый, не надо, смирись-ка, лапоть ты, лапоть, лопух ты, нет её больше, нашёл по ком плакать, не по ком, её давно нет. А ночью меня во сне сын попросил его потеплее укутать. Отлежала своё я ночью той у гроба сына, вылежала всё, монетками уже обложила, выложила чёрный лоб его, я проснулась и в гробе Але́ко укутала в тёплое. Полегче ведь стало, мазилушка. Дышится с этого. Что-то устала ведь я.
Сы́на показывал мне такие подвесульки на шею, птички две, себе голубка навесил, Алёне отдал голубицу, как же счастливы были ли, детки мои, два голубка, так и думала, счастья много не к добру ведь тому, плакала ж с этого даже я. Плакала. Давно было это. Всё забыто уже. Я не помню. Больно память дырявая стала. Помню, Алёна сама на голубку была похожая, беленькая ли вся такая, взъерошенная, выращенная в нашем посёлке-то. А всё равно не то в ней прижилось, чужое, тёмное что-то. Сердце моё говорило, как знала, как чувствовало сердце моё материнское, тёмное что-то сидело, вот чувствовала я — не то в ней, чужое, знала, подвоха ждала, мать же любит сына, мне же жалко Але́ко, она ж матери ближе была, любил голубицу свою, растил, щеночечек мой, по ночам всё не спал, вздыхал, так Алёну любил. Помню всё, а было давно то. Плакала я. Мать-то её пришлой была, как-то появилась под вечер в посёлке-то нашем, одна пришла, в руках пакетик яркий с морями какими-то на картинке, на ногах обувь рваная, курточка картонная, стоит как в халате, пришла, значит, такая, мы с бабами все упёрлись, вот ни в какую, вот пусть идёт, куда хочет ли со своими морями, а даже стоять рядом с этой вшивой мы с Шуркой-Шурочкой-Шуренью не будем. Ни в какую. Потом, оказалось, вообще попорченной она оказалась, с Алёнкой пришла-то уже, ждала её, значит. Ну, думаем с бабами, звери мы что ли, мужики на порченую не позарятся, наши-то точно, следовательно ли, пусть её, пущай проживает в посёлке без прописки, а с одной регистрацией временной, мы же всё понимаем-то, бабы ведь тоже, сложно одной-то, жалко её. Так и пожи́ла одна. Скромная была такая. Не слышно. Скромницей незаметною оказалась. Да незаметно и померла. Осталась Алёнка одна-то. Плакала долго девка, это да. Жалко её, жалели, прикармливали даже, потом просто переселила к себе её Шурка, добрая она, добрая баба вообще-то. Правда, давно было это. Всё забыто уже. Я не помню. Больно память дырявая стала. Помню, в август тот, когда решили Але́кушка с Алёнкой венчаться, сыпались в августе звёзды в нашей тайге, загоралась один раз трава. А больше ничего и не помню, только тот один звездопад. Не к добру. Вот тёмное что-то было в Алёне. Вот сердце матери чувствует, материнское сердце что компас, девушкой-то она была видной, с осанкой, осанистая, значит. В зиму ту так и пошло всю, я приглядываться стала всю зиму, глядела-глядела, весной-то повенча́ние будет, мать же я, не чужая, поэтому, значит, молчу да, пока под боком у меня девица ли, присматриваюсь. И вот вижу, вижу я, что на неё-то косится мужская порода, да ещё как косит, а эта вроде, не видит бы как, не замечает вроде как ничего, скромничает, может, просто, урод. Грех-то какой. Не к добру. Не к добру то. Глаз у матери, что око орлицы. И вот вижу, вижу я, в ней тёмное что-то, не наше, глазки-то девки в тени остаются, значит, в умысле что-то уже, а я, знать, ведь всё стерегу-то, жду, и жду беды, жду, когда выдаст Алёна всю себя с головой-то. Месяц жду, другой жду, да в тиши всё — значит что это? — а значит это, что вынесен сор из посёлка. Делать нечего. А зачем нам чужая? Пусть уходит, вот откуда мать её и пришла, пусть туда и уходит. Забирает своё всё приданное пусть — тот пакетик яркий с морями какими-то на картинке, мне чужого не надо. Что моё — то при мне да на мне. Пусть уходит. Баба с возу — кобылой-то меньше. Своих девок в посёлке навалом. Мой сынок всем невестам жених. Пусть уходит. Назавтра я сыну высказала всё, вот высказала всё, все свои наблюдения по поводу наречённой, пусть знает — а что? — пусть смотрит сам, не дозволю дурачить, следит-ка пусть сам, не моя работа это, не подписывалась я, у меня своих дел навалом, на мне весь дом висит с зари до захода. Что-то устала я, мазилушка, постой-ка ещё чуть-чуть, ты постой-ка, мне не надо её вещей, забирай, если нужно, себе унеси всё в обрат, её всё ненужное, барахло её старое, только ещё капельку, немного тут на этом балконе постой-ка, мне надо срочно тебе досказать, ведь я не знала же, что так обернётся, мазилушка, я ж не верила, что Алёнка, эта голубка беленькая такая, сизокрылая моя голубка ясная, была б виновною, знала же с детства её, на ручках на этих мозолистых таскала её с пелёнок самых на этих самых ручках. Как сейчас помню, на коленках-то у меня сидела ребёночком всё она, Алёнушка, пряники кушала, пока баба Шурка спала по самое рыло уделанная под нашим столом. Но давно это было. Всё забыто уже. Я не помню. Больно память дырявая стала. Помню, именно в эту вот зиму мой сыночек любимый в волосе на чуточку-то и приседел. Вот тебе и невеста. Смотрите какая. Вот её и пригрели. Неужто, думаю, змеей-то она, моя Алёнушка, моя девочка, подколодной-то змеей оказалась она, вот так вот ро́́щим-ро́щим, а потом кого же мы вырастили? Ох, и как же я проплакала да провыла всё по ночам на крылечке, чтобы сынушка мой, не услышал бы, не расстроился от того, на крылечке-то всё. А давно это было. Всё забыто уже. Я не помню. Больно память дырявая стала. Но именно теми ночами зимними да предолгими, я так близко красивое впервые рассматривала, там месяц в небе, одна звёздочка яркая, остальные померцивают пока только, кланялась я землюшке, матушке кланялась в землюшку, о тоске рассказывала по ночам людям, а люди проспали, не слышали важное. И сына мой стал приглядывать, надо приглядывать за невестой-то, я ему всё говорила про это, настаивала, Але́ко у первое время отнекивался ещё, посмеивался над матерью, дурой старой, вот так вот поцелует меня в щеку и скажет — да что ты мать, совсем одурела что ли, да я в Алёнке как в себе самом уверенный — вот так вот он и скажет, я, прям, обмирала от этого, от уверенности этой собачей, вот ты откуда знаешь-то, щенок, ты приглядывал? После всмотрелся. А Алёнке, так той хоть бы что, всё прыгает, птичка божья, всё попархивает, радуется чему-то, бедовая, на мужиков поглядывает, смеётся с ними, шутит, царица морская, пеной искрится вся, где ж это видано, чтобы почти мужья женщина так поглядывала? Вот тебе и невеста. Почти что жена. Смотрите, какая красавица писанная, футы-нуты, заливная какая. От этого-то от всего мой сынок единственный в волосе русом на чуточку-то и с проседью стал. Всё ходит, бывало, да смотрит, как светится, щёчки красные у неё, раскраснелась она, а к чему бы это, от чего, для кого она раскраснелась? Где ж это видано, чтобы почти мужья женщина так нагло на жениха-то поглядывала, и всё с улыбочкой? Где ж это видано, видано где, чтобы перед венчаньем девица была бы счастлива так в нашей тайге, да не помню такого я. И вот, наконец, всё открылось, вскрылось припрятанное, Алёна сама пришла в дом к нам, в ножки сама поклонилась, помню ещё, тихо так говорила она тогда, еле слышно, в себе вся была, тихо так говорит, у самой глазки светятся, говорила, собирается сходить от посёлка, побыть на окраине, просила разрешения нашего, говорила, она собирается пожить одна перед самым венчаньем, то есть прожить без Але́ко — где же это видано? — для неё это якобы важное, чтобы посмотреть на красивое. Вот так вот и вскрылось всё. Что уж тут, не ищи виноватых, понятно же всё. А убилась Алёнка так случайно сама, когда её поленом Але́ко охаживал. Прощенья просила за всё у Але́ко, выла, бедовая, извивалась ужом под поленом-то. Проплакала я всю ночь. После слёзы да вытерла. Что уж тут, понятно грешную душу, думаю, дело таёжное, надо бы простить её, девку. Так порешила я. Потом всмотрелась. А Алёна ударилась-то головой. И страшно мне стало с этого. Сын сиди на полу бледный. Страшно-то как. Я тихонько к нему подсела. Сидим. Молчим. Припрятать бы, говорю сыну, тело, душу отдать бы землюшке. Согласился со мной Але́ко. Обмыть захотел её сам, а закопали так её мы с сыном ночью в дальнем лесу, эту Алёну, ранней весной. Я ж по тропинке с сыном уходила когда, когда Алёну запрятали, спросила ж сына, стоило так делать ли, может, забылось бы, опять слюбилось бы, не жалко ли счастья отданного, сы́нушка подумал и признался, что чувствует действительно теперь по ней тоску и что-то вроде жалости, сам будто неживой, весь тёмный стал, даже не плакал больше. Но давно это было. Всё забыто уже. Я не помню. Больно память дырявая стала. Я не помню. Мазилушка, мне же по ночам здесь, на этой лавочке, казалось, что подходит ко мне женщина высокая-превысокая, казалось, подходит и улыбается для меня, а сама ласковая, держит за руку светлого мальчика, лет ли семи, показывает мне мальчика этого, тот смеётся, ручками тянется, ко мне на коленки садится, пряник кушает, женщина просит меня того ребёнка перекрестить, я крещу, и так мне хорошо-то с этого, оттого, что я вижу в нем, а вижу я у этого мальчика глазёнки Алёнкинские да носик Але́кушкин. Что-то устала ведь я. Больно тяжко мне тут. Ведь люблю я тайгу. Там в тайге ведь трава по колено, похрустывает, бежишь в ней когда, то щиколотками зацепляешься даже, но не падаешь, бежишь в той траве, как летишь, от того хорошо в той тайге. Люблю я тайгу. Помню подберёзовики, их я только и отличала, ещё лисички, и ещё помню пресладкую чернику, тут в лесу такой нет, та черника, ягодка та, которая лопается на кончике языка, от которой все руки липкие. Мазилушка, мне по ночам здесь, на этой лавочке, снилась какая-то женщина, вот здесь вот она стоит вот этом самом углу, стоит, головой качает, пальцем грозит, зовёт куда-то, а зачем зовёт? Зачем? А куда? Не хочу никуда я с ней, ты скажи ей об этом. Ты скажи ей. Вот здесь она стоит в этом углу высокая-превысокая. Страшно-то как, ой, страшно как здесь. А вот в семье-то жили мы там. Там, у тайги. Но давно это было. Всё забыто уже. Я не помню. Больно память дырявая стала. Я бы вспомнила. Да не вернёшь того. Шумит дождь. Руфь плачет.
КОНЕЦ
Октябрь, 2012