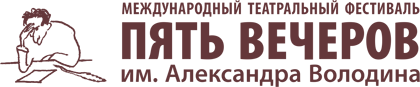Ася Волошина
Надежда, сестра утопии
Театр п/р Олега Табакова (Москва).Режиссер и художник Александр Марин.
Хитро Александр Марин играет жанрами. С первых же минут опрокидывает в зал порцию лучезарности, приглашая зрителей доверчиво вкушать эту душистую шипучку. За приятной сладостью сиропа не сразу различишь: в напиток изрядно подмешано яда. Комедия оказывается черной, и мораль ее обидна и проста: жребий людей различен. Пора б уже повзрослеть и раскрыть на это глаза. Полно глушить газировку.
Могла бы изначально насторожить аскетичность оформления. Домашний мирок двух подросших девочек ограничен какими-то могильными плитами. Можно списать на послевоенную разруху, но цвет, фактура… Так и тянет плесенью. И по ширме, отгораживающей от гротескно-милых и назойливых соседей, забегающих — кто с кастрюлькой, кто с зубной щеткой во рту — взглянуть на скандальчик, тоже ползет неприятная трещина. Как шрам. Или полоса от веревки.
Но в целом жить можно. Можно переворачивать веселенькую скатерть и превращать комнату в зал для приемных экзаменов, где на железной кровати в тесноте да не в обиде рассаживается обаятельная комиссия. И с мудрым, покровительственным наслаждением наблюдает, как по-есенински сияющий абитуриент Вячеслава Чепурченко талантливо лажает Чацкого. Можно есть картошку и делать уроки. Сочинять сочинение про то, что «участие в сборе металлолома или бумаги — это тоже счастье»… Можно принимать гостей — и в первую очередь дядю. Павел Ильин играет благодетеля и мучителя сестер изнурительно сосредоточенным, насупленным, несущим (будто за щеками) крепкое чувство: он-то знает жизнь. Что может быть скучнее человека с такими убеждениями?! А Ильину удается быть увлекательным, подкупать наивностью, которую он сам по ошибке принимает за мудрость. И все же каждый раз, когда этот персонаж входит в дом, становится как будто холоднее, затихает щебет. Гость и сам весь словно инеем (пеплом?) присыпанный, в сером «склепе» он смотрится неплохо — вроде статуи. Марин привносит в этот образ инфернальщинку: не знает дядя, что он портит жизнь, его сюда всякий раз точно роком заносит. Впрочем, рок, конечно, и без дяди бы справился…

Итак, героини предвкушают счастливое будущее и излучают радость, а в это время рушатся их судьбы: утекает время. Они на удивление похожи, эти сестры. И трепетностью, и нескладностью, и пылом. Наличием индивидуальности, сказали бы в приемной комиссии, когда бы рассмотрели Лиду.
И на удивление непохожи, конечно. Младшая — героиня Яны Сексте — неимоверно цельная. Может быть, именно динамики, противоречивости натуры ей не достало на вступительных. Как манией она одержима жаждой жизни. Кажется, что девушка только тем и занимается, что каждую секунду принимает мир. И улыбается во всю ширь, лишь чуть-чуть смущаясь, будто спрашивая риторически: «Ведь я тебе еще не надоела?» И ясно, что с такой оголтелой витальностью она никого не пощадит. В ответ на свою приветливость будет властно требовать у мира счастья. И будет брать — уже хотя бы на основании того, что не сомневается в его (счастья) существовании.
Улыбаясь и ликуя сквозь слезы, Лида придет к Надежде и тогда, когда вдруг все-таки откажется от своей с мясом вырванной любви: от своего Кирилла — чужого мужа. Но будет во всем этом какой-то подвох. Подвох и морок.
А Надежда Алены Лаптевой по ходу спектакля, наоборот, преображается неотразимо. Как будто сменяют друг друга разные женщины — пока безвестная, единственная (может быть, та, которую увидели мельком в приемной комиссии за три минуты монолога) стремится прорасти, найтись, родиться. И не рождается, в муках.

В начале разбитная, мечтательная, притворно строгая по долгу старшинства, она, утратив надежду, как будто начинает натягивать чужие маски. Так натягивает чулки на лицо незадачливый грабитель. К сцене свидания с записным женихом, нарядившись во все золотисто-терракотовое, пожелтев, как осенью, она становится до отвращения не собой. Поддается на компромисс и видно, что жаждет этим бравировать, упиваться. И упивается. И бравирует — как будто на поступлении с отчаянием и блеском разыгрывает дикий, вызывающий этюд. Буквально сметает такого очевидно идеального, хоть и не умеющего от смущения связать двух слов, жениха — персонажа Алексея Усольцева. Уничтожает его талантом, яркостью, яростью.
В некоторых эпизодах режиссер вынуждает героиню быть едва ли не вульгарной, едва ли не пошлой. В сцене хмельной встречи со старыми подругами Лаптева существует размашисто, без нюансов. Вся жизнь теперь — серия этюдов, и играются они все грубей. Как будто сама актриса Надежда выдохлась, утратила веру, вдохновение, любовь. К театру. К нелепой пьеске, в которой ей не дают настоящих ролей…
Впрочем, иногда, в паузах, страшно расширив глаза, она еще вглядывается в этот мир особенным полусумасшедшим взглядом — как будто видит перед собой что-то невидимое. Ухмылку трагедии? Кулисы жизни?
Но что тут разглядишь и что поймешь? Простую истину про то, что жребий различен — и дело даже не в том, что одни обретают любовь и успех, а другие прозябают в одиночестве и безвестности. А в том, что некоторые так и не находят себя. И ей не разыскать.

Чем тут спастись? Да разве тем, что все есть сон. Про то, что заявлено: спектакль в двух снах, — забываешь. Все, кажется, происходит в границах реальности. Время течет, сестры взрослеют, теряют все больше, но борются. Вот приходит жена Кирилла и ведет свою сцену с предельной психологической достоверностью. Но после режиссер вдруг дает этой хрупкой девушке с дрожащими пальцами партию женщины-вамп. Сменяется тональность сна, и вот уже все действующие лица, такие дружелюбные доселе, сквозь зубы шикают и, сидя на кроватях, как завороженные смотрят неприятное, псевдоэротичное шоу, танцы на столе. Персонаж Анны Чиповской в красном сплетается в объятьях с персонажем Вячеслава Чепурченко в белом. Пошлое зрелище. Но как все захвачены им! А оставленная Надежда силится протиснуться и сбыться. И неприятно кричит: «Я тоже хочу!» А чего она хочет? Славы? Ласкающих зрительских взглядов? А ведь недавно так правдиво говорила про служение артиста людям…
Весь этот ужас разрешается голливудским хеппи-эндом (и ирреальность сна спасает от ирреальности благополучного финала). Надежда победила: вдруг по мановению, по капризу судьбы обрела успех, поклонение, восторги. И потеряла себя до конца. Выглядит теперь как напомаженная звезда, как шаблонная дива. Говорит с дядей, как с секретарем, красуется, принимает позы. И странно, и страшно, что той вынужденно рассудительной, а в душе наивно-мечтательной девочке могло пригрезиться такое. И хорошо, что плита арьерсцены с доселе скрытым изображением голубого дерева мечты, похожего на вздувшиеся вены, буквально выдавливает героиню из этого сиропного кошмара. И заставляет с ужасом проснуться.