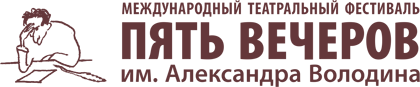Ася Волошина
Непостоянство памяти
Гастроли на фестивале «Пять вечеров» им. А. М. Володина
Я. Пулинович. «Бесконечный апрель». Елецкий драматический театр «Бенефис». Режиссер Павел Зобнин.
Связь времен для главного героя «Бесконечного апреля» не то что не распалась — накрепко спуталась в узел: воспоминания детства, воспоминания зрелости — все приходят когда им вздумается и замещают реальность. Развязать не удастся, да и нет смысла трудиться: вот-вот разрубит смерть. Об этом факте сообщает без экивоков его обаятельная хабалка-дочь воображаемому собеседнику в зале. Связи времен для нее никогда и не существовало, кажется. С веселой панибратской доверительностью героиня Юлианы Веленской рассказывает агенту, пришедшему оценивать квартиру для продажи, как жили и умерли в этих стенах две ее бабки и мать. «Метраж!», — рокоча, повторяет она в азарте. Покупатели рухлядь выкинут, евроремонт забацают.
А «метраж» в спектакле Зобнина в несколько слоев засыпан памятью. На полу комнаты ворохи дореволюционных газет, книги, содержимое ящиков, ящичков, комодов. Как после стихийного бедствия, обыска или погрома. В это уже распотрошенное пространство входит второклассник Веня — седой человек в старомодном пальто. Владимир Громовиков играет мальчика совсем без отстранения. Капризные интонации, в испуге вытаращенные глаза. Когда в дом, как смерч, врывается рабоче-крестьянская девочка Галя Ирины Кислых (ужасающее последствие уплотнения), герой с совершенно непререкаемой детской искренностью и максимализмом ненавидит ее. И кричит, и шикает яростно-беспомощно (конечно, если неумеренно корректной мамы нет рядом). Чувствуется, что мальчик с червоточинкой: несмелый, безвольный. Чувствуется и то, как трудно и мучительно ему с самим собой. И потому недостатки с грустью прощаешь.

Режиссеру вообще удается, не впадая в мелодраматизм даже в опасных местах, удерживать тональность тихой мудрой печали. Все несчастные люди несчастны по-своему. А по-своему несчастен здесь каждый. И маленькая Галя, которая носится по комнате с оголтелой бесцеремонностью, хватает вещи, дразнит Веню, демонстрирует силу, но (справедливо ли?) ощущает огромное превосходство этого мальчика из другого мира перед собой. И повзрослевшая Галя, которая с деловитой рассудительностью, повторяя «я женщина», уходит от рохли-мужа (они, конечно, поженились с Веней) к какому-то настоящему сибиряку. А вскоре возвращается, гордо-пристыженная, долго стоит неподвижно, потом, спасаясь идиотским возгласом: «Наверно, это рок: от евреев не уходят», — бросается ему на шею. И случайная попутчица с умными глазами (героиня Людмилы Соловьевой), с которой у Вени случается что-то минутное, но настоящее. И мама Вени, кутающаяся в траурный платок (Ирина Проняшкина), играет женщину слишком нежную, чтоб воспитать сына, слишком старомодную, чтоб воспитать человека, который сумеет жить в СССР. Даже неунывающая, предприимчивая дочь Вени и Гали, которая, родившись в этом доме, должна была бы чувствовать пресловутую связь времен, а оказывается напрочь из нее вырванной, теряет память куда основательней, чем впавший в слабоумие отец.

Крик маленького Вени, лежащего с температурой, стон взрослого Вени, не выдерживающего невзгод, каждый раз перерастают в беззвучные крики Вени-старика, умирающего от рака. Герой такой конец предвидел: говорил, что умирать будет долго, чтобы искупить бездеятельную, бессмысленную жизнь. Он и правда как будто ничего не делал, только ходил всю жизнь среди этих останков истории — так птицы ходят по отмели среди обломков кораблекрушения, ища, чем поживиться. Он, может быть, блуждает и бессознательно, но мы чувствуем, какой образ он силится здесь воскресить. В пьесе характер персонажа объяснен с фрейдистской точностью. Когда-то в доме была кухарка Катя, которая потрясла воображение мальчика: ему было еще два года. В день рокового уплотнения она ушла, и, чтоб не ранить сына, мать всегда говорила ему, что он ее придумал. Персонаж Громовикова каждый раз произносит имя «Катя» так, что кажется, будто лично тебя одарили нежностью. И ждешь невольно, когда же он скажет это снова.
Утраченная Катя — символ изувеченной памяти. И неприкаянности. И потери. Хуже всего, что Веня не знает, верить своей или маминой памяти. И оттого чувствует, что его жизнь и личность в самом начале были подрублены. И взрослый, и маленький Веня много брюзжит, капризничает, в разных формах проявляет эгоизм — все как-то трогательно, почти что мило. В последнюю очередь можно ожидать от него трагического монолога. Но трагический монолог произносится. На протяжении спектакля актер мастерски накапливает выросшую из маленькой маминой ошибки большую боль персонажа, и понемногу убеждает зрителей в том, что к ней нужно относиться всерьез. В кульминационной сцене он сначала цедит, а потом выплескивает ее. Эпизод происходит во время блокады: Веня рассказывает свою историю двухлетнему потерявшемуся в районе Преображенского собора мальчику, обезопасив себя тем, что тот, конечно, не поймет и даже лица никогда не вспомнит. Герой кладет перед воображаемым ребенком кусок хлеба и неожиданно для себя изливает душу сначала ему, а потом — в лицо — матери. Она, хоть и умерла, весь спектакль присутствует на сцене, как и все прочие герои. И хорошо, что живого мальчика нет, а мертвая мама стоит и слушает. И ясно, что он имеет право на этот приступ возмущения и ненависти.

Для дочери Вени очевидно, что прежде люди были лучше. И это в какой-то мере становится оправданием. Она с прагматичной безжалостностью относится к отцу, который скоро все равно умрет, но семья родителей для нее — эталон (для нас эта идея скомпрометирована: ведь мы-то знаем об изменах). Сама она, как говорит, жила куда более бестолково. А дочь и того хуже: Люба упрекает ее в том, что у Гали в двадцать пять лет «было уже четыре хахаля». Эта самая дочь — героиня Киры Оборотовой — приходит в квартиру после смерти деда и рассуждает, что хорошо бы было здесь устроить сейшн в стиле блокады. И это вездесущее клише о том, что люди прежде были лучше, она подхватывает. «У меня был героический дед», говорит девушка, повторяя чужие слова или попросту вдохновенно сочиняя. О мере его героизма мы, кажется, можем судить более объективно, чем внучка.
Кажется, тотальный тупик. И связь времен мутирует в моду на дикие стилизации, и даже утешительную мысль о том, что хотя бы прежде люди были лучше, у нас отнимают, опровергнув ее на примере четырех поколений. Но не все однозначно: девочка, в отличие от мамы, смотрит на все предметы из былой жизни с восторгом, и квартира для нее — не метраж. Расфантазировавшись, она говорит, что дед жил в одно время с Бродским. А Бродскому в блокаду было два, и зиму
В спектакле неброский и нелапидарный оптимизм финала подкреплен мощным ходом. В той блокадной сцене за мальчиком приходила мама. И, к умилению зрителей, благодарила Веню, держа на руках настоящего ребенка (как будто он уже побежал к ней и она его подхватила). Это можно было бы принять за простое заигрывание режиссера с публикой, да только в финале на словах внучки Вени о том, что дед ходил по одним улицам с Бродским, мальчик вдруг лукаво и торжественно прошагает по авансцене вдоль зрительских рядов. И все сомкнется. Тут даже и стихотворению Бродского «Наступает весна» не обязательно звучать в финале.