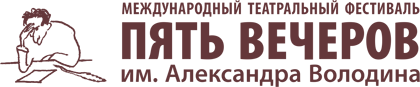Дульсинея Тобосская
Пьеса
Селенье
Декабрь. 1615 год. Селенье Тобосо. В зажиточном крестьянском доме, за пустым дощатым столом, сидели: Альдонса, девушка двадцати шести лет, ее отец, ее мать, ее жених и Санчо Панса, худой человек с выпуклыми светлыми глазами.
Отец сказал:
— А я думал, что вы полнее.
— Раньше я был полный, а теперь худой, — объяснил Санчо.
— И в книге написано, что Санчо Панса полный, — подозрительно заметил жених.
— Но потом я похудел.
— Когда же это с вами случилось? — поинтересовался отец.
— Недавно.
— Что-нибудь со здоровьем? — спросила мать.
— Горе у меня было. Неприятность. Беда. Все закивали головами:
— Да…
— Да…
— Да…
Только Альдонса не сказала «да». Она была не то злая, не то сонная.
Отец сказал: Говорят, это был прекрасный человек.
— Цвет рыцарства, гордость Ламанчи, — подтвердил Санчо.
— Да и одной ли только Ламанчи!
Санчо с горечью произнес: Теперь, когда его нет, мир наполнится злодеями. Потому что все злодеяния будут оставаться безнаказанными.
— На улицу не выйдешь, — поддержала мать.
Санчо привычно проговорил: Смиренный со смиренными, гордый с надменными, он смотрел опасности прямо в глаза. Он не унывал в бедах. Он был влюблен ни в кого.
Мать не поняла: Вы изволили сказать, что он не был влюблен ни в кого?
— Он был влюблен ни в кого. Отец обратился к жениху: Понял?
— Не понял.
Мать попросила: Если можно, скажите еще раз, Санчо, он не был влюблен или был влюблен?
— Разумеется, был.
— В кого же, интересно было бы знать? — съязвил жених.
— Ни в кого.
Отец начал гневаться: Ведь ясно, черт побери! Что ты привязался к человеку?
— А говорят, что в книге написано иначе.
— Владычицей его души была несравненная Дульсинея. Но она как бы была, но в тоже время ее как бы и не было! Но он был верен ей и отвергал королев, императриц и всякого рода дам.
— Значит она как бы и была? — продолжал язвить жених.
— Как бы и была.
— Но уж во всяком случае, это была, наверно, знатная дама? — сказал отец.
— Она была бесподобна по своей родовитости. Ибо на благородной крови произрастает красота более высокая, нежели у низкого происхождения.
— Теперь тебе ясно? — спросил жениха отец.
— Почти что.
— Слава богу. Но что же мы не выпьем за знакомство? Такой человек, Санчо Панса — и не зазнался, пригласили — пришел. Теперь-то вас, наверно, все зовут. То никому не были нужны, а то всем понадобились!
Мать внесла бурдюк с вином и кроличий пирог. Санчо оживился.
— А вы уверены, что Дульсинея — знатная дама? — жених ядовито спросил, обращаясь к Санчо.
— Сказано же, к чему сто раз повторять? — свирепел отец.
— Ее знатность была видна на расстоянии арбалетного выстрела.
Жених заметил: Но ходят слухи, будто вы как-то застали ее за просеиванием зерна? Во дворе, как какую-нибудь затрапезную крестьянку?
— Да будет вам известно, что с нами всегда творились вещи, совершенно не похожие на те, что случались с другими странствующими рыцарями.
— С ними всегда творились такие вещи! — подхватил отец.
— Завистливые волшебники видели, что их козни и каверзы на нас не действуют, так они — что? Вымещали свою злобу на той, что была моему господину дороже всего. Вот они и превратили ее в крестьянку и принудили исполнять столь черную работу, как просеивание зерна.
— И замолкни. И пей, — повелел отец жениху.
— Еще вопрос. Почему эта Дульсинея называется Тобосская? — не унимался жених.
— Дульсинея Тобосская, это верно, так она называется, — сказал Санчо.
— Значит, она живет в Тобосо?
— Раз Тобосская, значит в Тобосо, где же ей еще жить?
— Мало ли в Тобосо девушек. Не наше дело в этом разбираться, возмутился отец.
— Но у такой знатной дамы должен быть дворец в Тобосо. Почему-то о нем ничего не известно, — настаивал жених.
Санчо был озадачен: Действительно, чем бы это объяснить?
— Это я вас спрашиваю, чем бы это объяснить?
— Дай человеку поесть, — вмешалась мать.
— Это жених нашей дочери. Дотошный парень, — обозлился отец.
— И все же прошу ответить на вопрос. Ибо это кровно меня касается. А также и всех остальных. Только все делают вид, что это их не касается. А я не хочу делать вид. Кто же такая эта знатная дама из Тобосо? Ее нетрудно здесь отыскать, — каменея, сказал жених.
— Как же ее отыщешь, если она была превращена в невоспитанную сельчанку! В заколдованную, оскорбленную,
униженную и подмененную! И вот почему я буду всечасно ее оплакивать. Ибо только благодаря несравненной Дульсинее село наше станет знаменито и прославится в веках, подобно тому, как Трою прославила Прекрасная Елена.
— Постойте, тогда уж не надо отвлекаться. Это господин ваш был, как говорят, помешан, но вы же, слава богу, в здравом уме? Вы упомянули здесь презренную крестьянку, в которую ваши недруги превратили Дульсинею. Тогда расскажите нам про эту крестьянку, и дело с концом. Если бы она сейчас попалась вам на глаза, вы бы ее узнали? — спросил отец.
Санчо уже охмелел: Еще бы! Я распознал бы ее на расстоянии полета копья. Едва мы с господином выехали из лесу, как вместо нашей принцессы, которая вот только что восседала передо мною на иноходце, к нам приближается поселянка на ослице! «Ах, мошенники! — кричу. — Эх вы, волшебники зловредные! За что же вы так нам досаждаете?» Я спешился, взял за недоуздок осла той поселянки, в которую обратилась Дульсинея и сказал: «Королева, принцесса и герцогиня красоты! Вот блуждающий рыцарь Дон-Кихот Ламанчский стоит рядом со мной как столб, сам не свой. Это он замер перед лицом великолепия вашего!..» Тут и он опустился рядом со мной на колени и устремил смятенный взор на ту, которая была королевою и герцогинею, хотя и выглядела деревенской девкой, к тому же не слишком приятной наружности и с родимым пятном над губой.
— Вы сказали — с родимым пятном? — встрепенулась мать.
— Над губой было пятно.
— Вот здесь? — спросил отец.
Санчо повернулся так, чтобы припомнить.
— Здесь.
— Да это же Марсела! — ахнула мать.
— Батрачка Марсела со своими сестрами ехала на базар! — воскликнул и отец.
— Они еще рассказывали, как их напугали двое умалишенных!
Отец и мать накинулись на жениха.
— Сообрази, кто такая Дульсинея?
— Теперь успокоишься, изверг?
— Теперь успокоюсь, — сказал жених.
— Наконец-то, — сказал отец.
— Знали бы вы, какую он тут затеял свару, — поддержала его мать.
— Ну, чтобы совсем уж хорошо покончить, — продолжал жених, — пускай Санчо Панса нам скажет, почему в книжице про хитроумного Дон-Кихота указано, что Дульсинея — это дочь зажиточного крестьянина из Тобосо, а по имени эта девица — Альдонса!
Как гром прозвучала его речь. Вздрогнул отец девушки. Окаменела мать. Не поднимая глаз сидела Альдонса.
— Откуда ты это взял? Ты и читать-то не умеешь! — вскричал отец.
— Я специально ездил в Толедо, и там один бакалавр мне это сказал.
— Мало ли что сказал бакалавр! Не мог настоящий идальго прельститься и совершать приключения ради деревенской девки, которую и замуж-то никак не выдать! Да посмотрите на нее хорошенько! Ну, похожа ли она на прекрасную Дульсинею или на что-либо подобное? — взывала мать.
Санчо долго молчал, понурясь над пирогом. Потом поднял голову и в первый раз осторожно, искоса посмотрел на хмурую Альдонсу и сказал.
— Она.
Жених расхохотался.
— Прошу прощения, Санчо, но тут уж начинается какая-то путаница, сказал отец.
— За что же вы возводите на нее напраслину? Девушка послушная, проворная. Утром — другие еще кофе пьют — она уже на рынок, продаст зелень бегом обратно, подоит корову — в город с молоком, — поддержала его мать.
— И сошьет, и побелит, и медную посуду почистит.
— За что же вы ее порочите!
— Если вам что-нибудь нужно, — скажите, не обеднеем, у нас и козы доход приносят, и с виноградом не в накладе.
Санчо смотрит на них дико: Вы отказываетесь от этой чести? Вы отказываетесь от этой славы? Ради сеньоры Дульсинеи мой господин набрасывался на сотню вооруженных людей, как мальчишка на спелые дыни! Перед смертным боем он поручал свою жизнь защите прекрасной Дульсинеи! Знаете ли вы, чурбаны, что если бы она не вливала силы в его десницу, то он не убил бы и блохи! Это доблесть Дульсинеи избрала его руку своим орудием! Она сражалась в нем и побеждала! Чтобы угодить Дульсинее, он забирался в горы, как дикарь, и, голый до пояса, каялся. Спал на земле, во время трапезы обходился без скатерти, не чесал бороды, плакал и благословлял судьбу!
Только сейчас заговорила Альдонса: Что же это он ни разу не заходил увидеться с нею?
— С кем — с нею? — не сразу понял Санчо.
— Ну — со мной, вы говорите.
— Слышали? Вот о чем она спрашивает! Зачем тебе было видеться с ним, поганка! — возмутился жених.
— Что ты привязался к девочке? Ну спросила из любопытства. В кои-то веки ухажер объявился, — сказала мать.
— Да ведь не увиделись же! Не виделись они, не виделись, нудный ты парень! — поддержал ее отец.
— Это мы еще выясним. За столько лет ни разу не повидались. Трудно поверить, — настаивал жених.
Санчо снова увял: Благородный Дон-Кихот не увиделся со своей госпожой, потому что она не ответила ему на письмо.
— А! Значит еше и письмо было! — побагровел жених.
— Давай сюда письмо, — потребовал отец у дочери.
— Письма у ней нет, потому что я его не отдал ей, — объяснил Санчо.
— Поверим. Что же там было сказано? Ваш господин наверняка с вами поделился, — настаивал жених.
— К чему говорить о письме, если нет его, — сказала Альдонса.
— Почему же — не к чему? Именно есть к чему.
— Нет, вот именно и не к чему.
— А по-моему, дочка, раз уж зашла об этом речь, лучше пусть расскажет. Такой кабальеро не мог написать ничего дурного, — сказала мать.
— Санчо, только от себя, уж пожалуйста, ничего не прибавляйте, добавил отец.
— К чему прибавлять-то? И прибавлять-то не к чему. Не было письма! Не давал он мне ничего! Неужели трудно понять, — вскричала Альдонса.
— Но ведь тогда этот балбес еще хуже будет тебя подозревать!
— Пусть подозревает, если балбес.
— Вот как. Ничего, сиротой не останемся. Шестнадцатилетние девочки бегают без дела, — обиделся жених.
— А такое хозяйство там бегает? — сказал отец.
— Хозяйство дело наживное. Но сперва давайте разберемся до конца. Забыли вы письмо. Значит передали его на словах?
— Не передал я его на словах, — сказал Санчо.
— Почему же?
— Не повидал я сеньору Дульсинею. Не добрался до нее.
— Даже не добрался! Так далеко от вашего села до нашей Тобосы?
Санчо виновато обратился к Альдонсе: Дело в том, госпожа, что именно к этому времени мой господин нацелился на королевский трон — я имею в виду принцессу, которую он собирался спасти и жениться на ней.
— На ком это он там жениться собирался? — вскинулась Альдонса.
— В том-то и дело, что не собирался он жениться, у него и в мыслях этого не было! Но я-то, грешным делом, рассчитывал, что коль скоро это сбудется, то он и меня женит. Потому что я к этому времени уже овдовею — и сосватает мне какую-нибудь знатную даму. Вот какие чудовищные мысли бороздили мою голову! И потому я ему наврал, что видел вас. И будто вы просеивали зерно. И потому я не передал вам его любовное письмо. И все это я говорю, чтобы вы поняли, какой я негодяй и чего я стою.
— Так что он там — женился, нет?
— Как же он мог жениться, если владычицей его души была Дульсинея! Когда же я из-за своей гнусности не стал разыскивать Дульсинею и вернулся ни с чем — господин принялся меня расспрашивать: «Вот вручил ты письмо. Чем была в это время занята царица красоты? Вернее всего, низала жемчуг?» «Никак нет, — сказал я, — она просеивала зерно у себя во дворе».
— Почему же ты так сказал?
— Я иной раз потешался над своим господином. А зачем — не знаю… Тогда он спрашивает: «Что же она сказала, когда прочитала мое письмо?» — «Она, мол, сказала, что страх как хочет с вами повидаться».
— Ну, братец, вы такие петли мечете, что вас трудно понять. Если она ничего этого не говорила, зачем же вы это говорите? — возмутился отец.
— Я говорю не то, что было, а только то, что я говорил.
— А раз говорил, так и говори до конца: когда ты сказал, что я зову его прийти, — что он Тебе на это сказал? — спросила Альдонса.
— Вот она и созналась! Все слышали? Значит, ты все-таки звала его прийти? — торжествовал жених.
— Да ведь сказано тебе, что он наврал? — вступился отец.
— Что он наврал?
— Все наврал!
— Так может быть и то наврал, что все наврал?
— Почему же, Санчо, твой Дон-Кихот и на этот раз не пришел ко мне, когда я сама его позвала? — спросила Альдонса.
— Да потому, что по законам рыцарства, он сначала должен был выполнить свое обещание и спасти принцессу от великанов! А потом уж думать об удовольствиях! Разве не так?
— Не знаю ваших дел. А кто она была, эта принцесса, о которой вы все время тут толкуете?
— Эта сеньора, которая выдавала себя за принцессу, оказалась такая же принцесса, как моя супруга Тереса.
— Любопытно было бы услышать, с какими дамами еще был знаком ваш господин.
— Еще в него была влюблена девица Альтидисора.
— Тоже принцесса?
— Это была горничная, но ей едва стукнуло пятнадцать лет. Самая здоровая девушка во всем замке. Но при виде Дон Кихота ей сразу становилось дурно, и подругам приходилось расшнуровывать ей корсет.
— Мы корсетов не носим, у нас и так все в порядке. Так что же там с ней стряслось?
— Она пела ему под лютню и молила бога, чтобы Дульсинея так и не вышла из-под волшебных чар, и чтоб он не насладился и не взошел с нею на брачное ложе.
— Дура стоеросовая. Дворцовая подметалка.
— Теперь вам ясно, что это был за человек? И это только начало. Если бы наш гость Санчо Панса не поленился и продолжил свой рассказ о любовных похождениях пресловутого Дон-Кихота, то мы бы наверняка услышали немало интересного! — рассудил жених.
Санчо сказал, наливаясь гневом: О подлые, нескромные, неучтивые, невежественные и косноязычные люди! Наушники и клеветники! Вы думаете, я пришел к вам ради вашего пирога? Я пришел взглянуть на ту, перед которой так тяжко виноват. Не вам, а ей я хотел передать все слова моего господина, которые он обращал к ней. Может быть, я сболтнул что-нибудь и не так. Дурак в своем доме скажет лучше, чем умник в своем. Но знай одно, Альдонса, страшнее всего была для моего господина мысль, что какая-нибудь девица его пленит и заставит нарушить обет целомудрия, который он дал владычице своей Дульсинее. И вот как он стенал ночами, не давая мне заснуть: «Для одной лишь Дульсинеи я — мягкое тесто и миндальное пирожное, а для всех остальных я кремень. Одна лишь Дульсинея для меня прекрасна, разумна, целомудренна, изящна и благородна. Все же остальные безобразны, глупы, развратны и худородны. Природа произвела меня на свет для того, чтобы я принадлежал ей, а не какой-либо другой женщине».
— Да что же это в самом деле! Он же и знать меня не знал! — возмутилась Альдонса.
— Знал он тебя, знал, в том-то и дело.
— Вот наконец кое-что и выясняется, — обрадовался жених.
— Когда еще он скромно и бесславно жил в своем селе, ел винегрет и читал рыцарские романы и звали его просто Алонсо Кихано, — сказал Санчо.
— Тощий Алонсо Кихано, — поразилась Альдонса.
— Иногда он забредал в наше Тобосо и тут влюбился в тебя за твою миловидность.
— Я не обращала на него никакого внимания.
— Ты не обращала на него внимания, но ты показалась ему достойной быть владычицей его помыслов. И он выбрал тебе имя, которое не слишком бы отличалось от твоего собственного, но в то же время напоминало бы имя какой-нибудь принцессы — Дульсинея Тобосская. Потому что ты родом из Тобосы.
— Но он и слова мне не сказал!
— Потому что его чувство всегда было возвышенным и далее почтительных взглядов дело не заходило.
— Тощий Алонсо Кихано…
— Алонсо Кихано Добрый, так его все звали в Ламанче.
— Вот и вышло все на чистую воду, — сказал жених.
— Что вышло-то? — вскинулась мать.
— То, что они были знакомы и встречались!
— Какие же это встречи? Человек три раза в жизни видел девушку и ничего себе не позволил, а только пялил глаза, может быть, с другого конца улицы!
— Какая разница, сплетни все равно будут.
— Если ты сам не станешь трепать языком, то и сплетен не будет. У нас и читать-то никто не умеет, и знать никто не узнает, что там в Толедо написали, — сказал отец.
— А если даже сюда и дойдет какой-нибудь слух? Что плохого в том, что твоя жена стоит такой любви? — добавила мать.
— Что делать, когда настоящие парни уходят в город, то и такой может поторговаться.
— А если сюда понаедут городские молодчики, любители романов, да начнут из любопытства подбиваться к моей жене? На будущее вот тебе мой совет, дорогая: дальше постели ног не вытягивай! — сказал жених.
— Это он ревнует, потому и беснуется, — объяснила мать.
— Ревновать-то я не ревную, а зло меня берет, это верно, — ответил жених.
— Об этом я и говорю.
Отец решил: Давайте закругляться. Вспомните, Санчо, не нужно ли вам сменить дверь в кладовку?
— Пора бы, — согласился Санчо.
— А не надобны ли вам листья для шелковичных червей?
— Не помешали бы и листья.
— Вот что, дружище. Вы должны сказать всем и объявить, что Дульсинея не она.
— А кто же тогда Дульсинея?
— Кто угодно, только не она.
— Та, с родимым пятном над губой, Марсела, — вмешалась мать.
— Марсела — Дульсинея, — подтвердил отец.
— Он перед ней становился на колено? Она и Дульсинея.
— Ее заколдовали — значит, Дульсинея она. А что написали в книге несведущие люди — нас не касается. Санчо Панса лучше знает.
Отец показал на дочь: Не она?
— Не она, — сказал Санчо.
— А кто? — спросила мать.
— Не знаю.
— Черт побери, Дульсинея — Марсела с родимым пятном! Ведь так, Санчо? рассердился отец.
— Так, — согласился Санчо.
— Кто Дульсинея?
— Марсела с родимым пятном. Отец обратился к жениху: Доволен?
— И пускай оповестит жителей Тобосо, что между Альдонсой и Дон-Кихотом ничего не было, — потребовал жених.
— Если она вообще не Дульсинея, зачем же оповещать, что между ними ничего не было? — вмешалась мать.
— Дурень, если Санчо начнет ни с того, ни с сего кричать, что между ними ничего не было, — это как раз и посеет ненужные подозрения. — поддержал ее отец.
— Хорошо, тогда пускай он скажет хотя бы нам, было что-нибудь между ними или не было? — настаивал жених.
— Изверг естества! Подвал гнусностей! Копилка небылиц! Неужели тебе еще не ясно, что между ними ничего не было? Санчо, повтори ему, что ничего не было!
— Ничего не было, — сказал Санчо.
— Ничего не было! Понял?
— Он и видел ее всего раза три, и то еще до того, как немного тронулся в уме.
— До того, понял?
— Она тогда и внимания на него не обратила.
— Она и внимания не обратила! Понял? Тут вступила Альдонса: Понял он, понял. А теперь, женишок, держись за скамейку, я тебе скажу правду.
— Вся правда сказана, и довольно, — беспокойно сказала мать.
— И нечего меня выгораживать, надоело. Скучно мне оправдываться перед тобой. А что было, то было, и не тебе меня судить.
— Опомнись, что между вами могло быть!
— Все.
Отец сразу поверил: Где?
— На сеновале.
— Когда?
— Весной.
— Весной ты коз пасла в горах! — возразила мать.
— Я молоко носила домой.
— Весной дожди шли, на сеновале все сено замокло!
— Матушка, какое это имеет значение?
— Я знал это! Я сразу это понял, только у меня еще не было доказательства! — торжествовал жених.
— Ты думал, раз в селенье мало мужиков, так я никому не нужна? Любая женщина хоть кому-нибудь да нужна.
— Вон из дома. — сказал отец.
— Хорошо, батюшка. Альдонса встала и пошла к двери. Жених стал удерживать ее: Нет, зачем же так! Это лишнее, батюшка. Куда она пойдет?
— Ты свое дело сделал, заткнись.
— Что до меня — так я прощаю. Если она раскаялась — я согласен: Ничего не было. Я хотел, чтоб я не один мучился, но и ты тоже. Может быть, я и хватил через край. Но я согласен. Несмотря ни на что. Несмотря на твой возраст.
— Скучные вы. Скучные. Я спать перестала от скуки, — сказала Альдонса.
— Не от скуки, а замуж тебе пора, — возразила мать.
— Вышла бы я за него, но только чтоб овдоветь в тот же час.
— Видите, сколько в ней злости? Но я все равно согласен, — сказал жених.
— Счастливо оставаться.
Мать бросилась к двери, преградив Альдонсе путь.
— Моя бабка была замужем, и я была замужем, и ты будешь!
— Будет, будет. Завтра свадьба, — усмехнулся жених.
— Ну и слава Богу, — сказал отец.
— А я вам скажу, Альдонса, что драгоценней всего на свете — свобода. И с нею не могут сравниться никакие сокровища, — убежденно сказал Санчо.
— Не безобразничай, пучеглазый. Пришел за шерстью — гляди, как бы самого не обстригли, — рассердился отец.
— И напротив того, неволя есть величайшее из несчастий, какие могут случиться с человеком!
— Какая же это неволя, замуж выйти? Спасибо, что человек согласен ее кормить! — воскликнула мать.
— А на это я вам скажу: блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!
— Ну, винный бурдюк, придется тебя приостановить, — сказал жених и отвесил Санчо оплеуху.
— Чтоб тебе блохи глаза выели! — вскричала Альдонса и отвесила оплеуху жениху.
— Ты еще и руки распускаешь, образина? — возмутилась мать и отвесила оплеуху Альдонсе.
— Не смей лупить девушку, окаянная! — завопил отец и отвесил оплеуху жене.
— Живодер! — рассердилась мать и отвесила оплеуху мужу.
Дом изысканных удовольствий
Комната была так обставлена и отделана, что всякому сразу становилось ясно: здесь живет достойная и приличная дама. В золоченых клетках посвистывали канарейки.
Альдонса в своем туалете сочетала сельскую наивность и моду больших городов. Что же касается сеньоры Тересы, то она выглядит так благородно, что благородней ее едва ли отыщутся две или три сеньоры в Толедо.
— Дон Лопес от бешенства ходил по потолку! Изорвал твою мантилью и вопил на весь город! Чем он не угодил тебе, пустоголовая? Что туг стряслось? — спросила Тереса.
— Поначалу все шло хорошо. Он сказал, что моя красота так его пленила, что он более не может с собой бороться, — отвечала Альдонса.
— Прекрасное выражение.
— Он сказал, что его вздохи испепеляют воздух.
— Удачно.
— Его жалобы утомляют внимающие небеса.
— Вот запомнила бы, при случае ты сама могла бы так выразиться! Как же ты ответила на это?
— Я ответила, что от его слов моя душа подступила к горлу и торчит там, как грецкий орех.
— Не слишком изящно, но простодушно. Этим всегда брала Кристина.
— Тогда он сказал про ланиты.
— Ланиты — это щеки.
— А я подумала, что это неприличное. Потом он сказал про ТантАл.
— ТАнтал, — поправила Тереса.
— Он сказал «жаждущий ТантАл».
— Ну, это тебе не обязательно знать. Надо просто слушать, скромно потупясь.
— Дальше я не помню, потому что у меня болела голова, наверно от угара. Я сказала, что я, наверно, угорела и сейчас мне не до этих тонкостей.
— А к чему было об этом докладывать? Зачем ему знать, что ты угорела или маешься животом? Ты — Дульсинея, ты должна быть высшее существо, как бы бесплотное!
— А он мне возразил, что я бесчувственное животное.
— И он был прав, и нечего обижаться.
— Я и не обиделась. Но он еще возразил, что я неблагодарная тварь. Тогда я обиделась и возразила ему: чтоб тебе дюжину жаб сожрать.
— С этим кабальеро покончено. Но, может быть, и к лучшему. Сегодня к тебе придет другой кабальеро. Единственный сын человека, которого из почтения я и назвать тебе не могу. Сейчас ожидает в наследство приличный майорат. Но и ты должна постараться. Кстати, когда тебя называют Дульсинея, ты не должна вздрагивать, как будто тебя ужалил в ягодицу овод. Да и есть поменьше надо. Дон Лопес был поражен: какая это Дульсинея, она здорова как яблоко! Пускай знатных сеньор уважают более, нежели нас, но в искусстве любви мы должны превосходить их, иначе нет никакого смысла. Да, мы предпочитаем любовников с деньгами, навьючь осла золотом — он и в гору бегом побежит. Но кабальеро должен быть уверен, что он добился твоей любви не с помощью денег, а благодаря своим личным достоинствам. Правда, положение осложняется тем, что ты Дульсинея. Раз ты Дульсинея, то вынуждена быть непорочно девственной. Цветок твоей девственности есть дар. Стоит только сорвать розу с куста, как она увяла. Сегодня у тебя ничего не болит?
— Нет.
— Юный Маттео, который к тебе придет, видел тебя только издали, на балконе, и влюбился до смерти. Если, бог даст, ты его не разочаруешь, и он скажет тебе слова любви — что ты должна ему ответить?
— Я знаю, что любовная страсть в человеке есть неразумный порыв, который выводит человека из равновесия. И он, попирая…
— Препоны, препоны. Можно проще: препятствия.
— Попирая препоны, неразумно устремляется вслед желанию. Но едва человек достигнет своего, как это теряет для него всякую цену.
— Так и будешь таращиться? У тебя должны быть очи, подобные сияющим звездам! Альдонса сделала.
— Боже мой. Допустим…
— Если вы, сеньор, пришли сюда за моим сокровищем, то получите его только после того, как свяжете себя узами брака. Ибо девственность может склониться только перед этим священным игом…
— Хорошо. Он готов, он согласен, ибо остаться без тебя или умереть для него одно и то же. Но сначала он хочет убедиться в твоей любви. Это опасный момент. Тут придется решать на месте, ибо откладывать решение нельзя. Можно все проиграть, но можно все и выиграть. И ты решилась. Как ты дашь об этом понять?
— Каждое слово ваше — пушечный выстрел, разрушающий твердыню моей чести…
— Это в самом крайнем случае. Ясно? Держаться надо до конца. Но вот свершилось.
— Вы сразили мою добродетель, так сразите же и самую жизнь! Убейте меня сию же минуту. Женщина, лишенная чести, не должна жить!
— Прелестно! Именно так одержала свою победу Инес.
— Но к восьми часам вечера кабальеро должен будет уйти.
— Что такое?
— Не могу вам сказать.
— Не завела ли ты себе какого-нибудь лоботряса, который всех нас оставит с носом? Я у нее девичества спрашиваю, а она, того и гляди, ребеночка донашивает?
— Я чиста и непорочна, донья Тереса, и никому не дам себя подковать.
— Надеюсь.
— Но к восьми часам я должна быть свободна.
— Если это достойный человек, то зачем ты его от меня скрываешь? А если недостойный, то к чему он тебе? В дверь условно постучали.
— Пришел Маттео. Скажешь ему, что у тебя привычка перед сном читать Часослов. И только поэтому ты просишь его удалиться.
Она придала Альдонсе задумчивую позу, открыла дверь.
— Вас ждут, ваша милость… — и исчезла.
Еще не юноша даже, а мальчик вошел в комнату. Он был наряден и говорил солидно, но совершенно детским голосом:
— Я тот, кого пленила ваша красота. Альдонсу смутила его невзрослость.
— Здравствуй, мальчик.
Его покоробило такое обращение.
— Маттео мое имя. Я кабальеро, как это может подтвердить этот орденский знак. Отец мой — коррехидор, хлопочет мне о должности. Он уже имел аудиенцию и уверен в успехе своего дела. Но я не кичусь родовитостью. Я надеюсь прославить свое имя совсем другим — ученостью и знаниями.
— Ты умеешь читать? — уважительно спросила Альдонса.
— Я шпарю по Часослову, как по выполотому винограднику, — уязвленно ответил Маттео.
— Я тоже… Читаю Часослов перед сном.
— Но главное, чего я хочу — это служить вам. Для вас душа моя — воск, на котором вы можете запечатлеть все, что вам угодно.
— Хорошо…, — в замешательстве сказала Альдонса.
— Я сберегу этот оттиск в такой сохранности, будто он не из воска, а из мрамора.
— Но вам, наверно, известно, что цветок девственности есть дар, на каковой даже мысленно нельзя посягать, — вспомнила наставления Альдонса.
— На это существуют противоположные точки зрения. И мы их обсудим. С вашего позволения, я прочитаю стихи.
Что страшней, чем беспощадность?
Хладность.
Что горчайшая нам мука?
Разлука.
Что велит нам жизнь проклясть?
— Страсть.
— Удачно.
Кто невзгод моих причина?..
— Судьбина.
— Верно.
Кто судил, чтоб это было?
— Светила.
— Даже лучше, нежели было.
— Ты сам это сочинил?
— Сам я сочинил только две строчки:
Что поможет мне, о твердь?
Смерть.
— Самые лучшие строчки.
— Мне кажется, что у нас с вами много общего.
— Ты мне тоже нравишься.
— Благодарю вас, — покраснев, сказал Маттео.
— Но я боюсь, что тебе со мной будет скучно.
— В подобных отношениях я ищу не веселья.
— Но все-таки тебе было бы интересней с какой-нибудь девушкой помоложе.
— Мне, как правило, нравятся женщины более старшего возраста. Для меня, сознаться, даже не имеет значения непорочность. Я знаю девчонок, которые позволяют делать с собой все, кроме одного. Нет ничего хуже. Вы действительно девственница?
— Да…, — смущенно ответила Альдонса.
— Ничего, может быть, вы просто никого еще не любили. А без любви заниматься этим не стоит.
— За что ты полюбил меня, Маттео?
— Сначала я увидел вас на балконе. У вас был сонный вид, как будто вам все постыло. К этому времени как раз и мне все постыло. Потом я узнал, что вы — именно та самая Дульсинея, которой Дон-Кихот посвятил свою жизнь. Мне, правда, неизвестно, как вы к нему относились, многие, например, над ним иронизируют. Но для меня это нравственный идеал. Так же, впрочем, как и для всей современной молодежи. Об этом мы с вами еще поговорим. Но даже другое. Сейчас, когда мы встретились, я понял, что с вами я могу чувствовать себя абсолютно свободно, чего ни с одной девицей я не испытывал. Вы, скажем, поняли, что это не мои стихи, — а мне не стыдно. Но это же главное! Оставаться самим собой и не стыдиться себя. Об этом мы тоже еще потолкуем. Если хотите, можно начать разговор прямо сейчас. Вы не торопитесь?
— Скоро, наверное, уже восемь часов, а я как раз привыкла в это время…
— Зачем вы оправдываетесь? Я же не спрашиваю, кто к вам должен прийти. Поклонники, начинающие с того, что ревнуют, либо смешны, либо самоуверенны.
— До свидания, милый. Можно, я тебя поцелую?
— Это лишнее. Пока. Никогда не давайте поцелуя без любви. А ведь вы меня еще не могли полюбить.
В дверь постучали, тоже условно, но иначе.
Деликатно прикрыв глаза плащом, чтобы не видеть гостя, Маттео удалился. В комнату вошел Санчо Панса.
— Добрый вечер, Санчо. Присаживайся, — сказала Альдонса.
Они присели на оттоманку. Рядышком, как на деревенскую завалинку.
— Как тебе тут живется?
— Сижу в трактире, как приманка для дроздов. Посетителям разрешается смотреть, как я перекладываю пищу из горшков в желудок. А тебе как тут живется?
— Просеиваю знатных сеньоров для будущей совместной жизни.
— Большой выбор?
— Не жалуюсь.
— Тут надобно не прогадать.
— Дон Лопес был член муниципального управления. Подарил корзину белья и полусапожки. Но он обиделся на меня, что я угорела.
— Подарки не забрал?
— Вот и сразу видно, что ты деревенский. Кто же подарки забирает? Еще один — пожилой уже. Звать забыла как, неименитое лицо.
— Поношенный старикашка?
— Вместо старого горшка всегда можно новый купить. Был школьник мальчонок. Беленький, хорошенький, как жемчужинка. Но это все не то, не то. Такой один явился… Франсиско де Умильос. Свежий, как подорожник. Хотя немножко дерзкий… Это даже пускай. Шагает по комнате — все звенит в нем. Но я его стыжусь. Давно хочу тебя спросить. Если по чистой совести, вот этот Дон-Кихот, он ведь был помешанный?
— Если положа руку на сердце, то, разумеется, у него были не все дома. Но иной раз ему случалось говорить такие правильные вещи, что и сатана лучше не скажет.
— А если он был такой головастый, что же он так обнищал?
— Это верно, землицы у него было — волу не развернуться.
— Да и одевался он, помнится, так, что разве конюху пристало.
— По правде говоря, у него был прикрыт только зад да перед.
— Говорят, что обувь он чистил сажей, а зеленые чулки штопал зеленым шелком.
Санчо разозлился: Да будет тебе известно, девица, что удобства, роскошь и покой созданы для сытых столичных жителей. А для странствующих рыцарей созданы только бедствия, тяготы и лишения. Да, они бедны. Но деньги и не нужны им! На постоялых дворах они никогда не платят за ночлег. Ибо все обязаны оказывать им радушный прием!
— Любопытно, за что же это такая привилегия?
— А за то! За неслыханные муки, которые они терпят, защищая слабых и обездоленных денно и нощно, в стужу и зной, пешие и конные, алчущие и страждущие и не защищенные ни от каких стихий!
— Подумать, что все доставалось на его долю, и он был вынужден терпеть… Тощий Алонсо Кихано!
— Хотя письмо, которое он сочинил для тебя, он подписал не так. Твой до гроба Рыцарь Печального Образа. Он знал, что ты все равно не умеешь читать.
— Зачем же он тогда писал?
— Это трудно понять.
— А письмо-то где?
— Письмо у меня. Только письмо и осталось на память о нем.
— Давай сюда.
— А тебе-то зачем? Все равно ведь ни слова не поймешь.
— Мне написано, мне и отдай.
— С условием вернуть.
— Там видно будет.
Санчо неохотно достал из своего дорожного узла старый, желтый листок бумаги, отдал ей. Альдонса смотрела в письмо.
— А подпись где?
— Где подпись, внизу.
— Вот это, наверно. «Твой до гроба Рыцарь Печального Образа».
— Как раз шесть слов.
— А надо пять. Твой догроба Рыцарь Печального Образа.
— До гроба, — может быть, это два слова?
— Что ты!
— Должно быть, ошибся. Он отдал мне это письмо только перед тем, как испустил дух. Не умирайте, говорю ему. Послушайтесь моего совета. Это глупость со стороны человека — взять, да ни с того ни с сего помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал со свету, кроме разве одной тоски. Вставайте-ка, одевайтесь пастухом — и пошли в поле, глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную донну Дульсинею, а уж это на что бы лучше!
— А он что?
— Не захотел.
— Все-таки не захотел. Альдонса разглядывает письмо.
— Надо кого-нибудь попросить, чтобы прочитали, — сказал Санчо.
— Зачем, он ведь не для того писал, чтоб я читала. Я и не прочитаю. А что я буду думать — это уж мое дело.
— Даже лучше. Что хочешь, то и думаешь.
— Что хочу, то и думаю. Кому какое дело.
— Кого бы он ни встретил на своем пути, он тут же требовал: «Все, сколько вас ни есть, — ни с места, пока не признаете, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех Дульсинея Тобосская!» Если же кто-либо с ним не соглашался, тех он вызывал на смертный бой!
— Ну, подумай, Тощий Алонсо Кихано! — не переставала поражаться Альдонса.
С улицы послышались голоса. Там ругались. Какая-то девица пыталась войти в дом, но Тереса ее не пускала.
— Пустите меня, я только посмотрю и уйду! — кричала девица.
— Никто сюда не заходил, — сказала Тереса.
— А мне сказали, что сюда вошел Санчо Панса! Санчо Панса из Ламанчи вошел в этот дом! И тут он сидит!
Девица нарочно кричала, чтобы ее было слышно в доме.
— Я пропал. Это моя дочь Санчика, — сказал Санчо.
— Не знаю никакого Санчо, — кричала Тереса.
— Санчо, отзовись! Я знаю, что ты здесь! — кричала девица.
— Никого тут нет, здесь живет одинокая дама!
— Мне известно, кто тут живет! Одного окрутила, теперь взялась за другого!.. Санчо, у тебя семья!
— Всю улицу поднимет на ноги. Впусти ее, Тереса, — сказала Альдонса.
Войдя в комнату, Санчика сказала против ожидания тихо:
— Батюшка, домой.
— Здравствуй, Санчика, здравствуй, дочка, — подхалимствуя сказал Санчо.
Он направился к ней, чтобы успокоить и задобрить, но Санчика, не дав ему подойти, завизжала.
— Не надо, Санчика, успокойся, девочка, — ласково сказала Альдонса.
Она тоже попыталась приблизиться к ней, но Санчика завизжала еще громче. И каждый раз, как Санчо или Альдонса делали попытку что-либо сказать ей или ласкать — она снова принималась визжать, для громкости и свободы дыхания уперев руки в бока. Эти крики были, видимо, слышны и на улице. В дверь постучали, да так громко, что сама Санчика оробела и замолкла. Однако в двери уже лязгнул сорванный замок. «Замок сорвал, бандит! Кто мне его починит?!» — вопила Тереса.
Бандит вошел в комнату.
Было трудно представить, как ухитрился сорвать замок этот тощий человек. Но другое ошеломило присутствующих: он был поразительно похож на Дон-Кихота. Человек этот, правда, еще молод, но такой же узкий и вытянутый, с такой же бородкой и пепельным хохолком.
— Простите, ради бога, мне показалось, что тут плакал ребенок…
— Я не ребенок, — возразила Санчика.
— Виноват, я не хотел вас обидеть…
— Неужели колдовские силы, которые терзали моего господина, теперь обрушились на меня?.. А может быть, это Господь Бог за его подвиги вернул ему жизнь и молодость! — воскликнул Санчо.
— Алонсо Кихано, — проговорила Альдонса.
— Вы ошибаетесь, сеньора. Мое имя Луис де Караскиль, — сказал Луис де Караскиль.
— Я редко ошибаюсь, сеньор. Если увижу человека хоть раз — запомню навсегда.
— Очевидно, вы имеете в виду того Алонсо Кихано, который назывался Дон-Кихотом и воображал себя странствующим рыцарем. Мне говорили, что я похож на изображение этого человека в книге. Я, видимо, попал в общество его почитателей. Увы, не принадлежу ни к его поклонникам, ни к приверженцам его книги.
— С вашего позволения — Санчо Панса, сеньор. Если вам что-нибудь говорит это имя.
— Вы хотите сказать, что вы тот самый оруженосец Санчо Панса? Трудно поверить.
— Почему же трудно, сеньор?
— А почему вы не толстый?
— Я похудел. Но я тот же самый, тот же самый Санчо Панса, могу вас уверить. А вы?.. Если позволено будет спросить: кто вы, сеньор? Вы так похожи…
— Это я уже слышал.
— Тощий Алонсо Кихано! — повторяла Альдонса.
— Луис мое имя. Если хотите — тощий Луис. Мне хотелось бы все же выяснить, вас обижают здесь, дитя мое?
— Нет, сеньор, — сказала Санчика.
— Значит, все в порядке?
— Да, сеньор…
— Постойте, кого же тогда обижали?
— Никого, сеньор, не стоит беспокоиться.
— Но тогда выходит, что я должен просить прощенья за свое вторжение.
— Это лишнее, сеньор.
— Как же лишнее? Выходит, что я безо всякого повода ворвался в чужой дом. И вдобавок ко всему сломал замок. Какая неловкость, право. Я приношу свои извинения, а за поломанный замок готов уплатить.
— Побудьте с нами, сеньор, — попросила Альдонса.
— Этого еще не хватало, — сказала, появляясь в дверях, Тереса.
— Сеньор согласился немного посидеть с нами.
— Согласился все же! Нам повезло. Но учти, Дульсинея, тебе не пристало находиться в обществе стольких мужчин сразу.
Луис уставился на Альдонсу: Уж не та ли вы Дульсинея из Тобосо?
— Да, — сказала Альдонса.
— Надо сознаться, я вас представлял… Хотя, на самом деле вы же не… Вас зовут как-то иначе.
— Дульсинея она, Дульсинея, — раздраженно сказала Тереса.
— Как это вы именно сюда зашли? Ведь мог зайти какой-нибудь другой человек. А мог никто не зайти. Ведь до сих пор никто не заходил, размышляла Альдонса.
— Я ухожу, сеньора, — сказал Луис.
— Но если вы сейчас уйдете, то это будет еще более странно, чем то, что вы сюда пришли.
— Но я тороплюсь, сеньора. Я зашел сюда просто по пути.
— Подождите немного. Меня что-то дрожь пробивает, вся трясусь.
— Стыдись — так навязываться мужчине, — укорила ее Тереса.
— Говорят, что я вам навязываюсь. Просто я опасаюсь, что вы уйдете и забудете оставить свой адрес, знаете, как бывает…
— К сожалению, в Толедо я живу временно и не знаю, куда отправлюсь далее.
— Тем более, что, к сожалению, временно… Если вы должны идти по делам, то я могла бы вас проводить!
— С ума сойти! — возмутилась Тереса.
— Но мне тут совсем рядом, не имеет смысла.
— Если вы пробудете там недолго, я могла бы вас подождать.
— Но зачем же! Санчика прыснула.
— Девчонка смеется над тобой, — сказала Тереса.
— Я подождала бы вас на улице, а потом мы могли бы немного погулять.
— Право, не знаю, что вам на это сказать.
— Если будет не поздно, можно вернуться сюда и посидеть у меня.
— У тебя, бесстыдница! Не у тебя, а у меня! Но у меня в доме такого никогда еще не происходило и не произойдет. Уличная девка не позволит себе так приставать к незнакомому мужчине! — возмутилась Тереса.
— Я думаю, сеньор не примет меня за такую девицу, которой лишь бы с кем познакомиться. Чего-чего, а поклонников у меня полно. Многие добиваются моей руки.
— Если бы не я — и в глаза бы тебе не видеть таких людей! Вспомни, как ты ревела возле постоялого двора, потому что у тебя не хватало семи эскудо, чтобы заплатить за ночлег. Ты когда-нибудь жила так в своей Тобосе? Кто тебя познакомил с доном Маттео, и доном Лопесом, и доном Бенито, я не говорю уж о доне Франсиско?.. Завтра весь город будет говорить, как ты вместо этого побежала за каким-то сусликом, которому ты даже не нужна. Он прямо об этом сказал!
— Он ничего не сказал!
— Уж так сказал, куда яснее, — усмехнулась Санчика.
— Он не мог мне ничего сказать, потому что я сама ничего ему не сказала. Я согласилась его только проводить. И настоящий сеньор был бы рад, что дама согласилась его проводить. Как будто ей такое счастье провожать его по делам и еще ждать на улице, когда он освободится. Этого не может понять только неотесанный невежа, ничего нет удивительного, что он сломал замок.
— Я не хотел вас затруднять, сеньора, но если вы настаиваете…
— Чем же это меня затрудняет! Ничуть не затрудняет…
— Тогда уж, если тебя не затрудняет, заодно забери отсюда свои пожитки, и поживей, эта комната мне нужна. Сюда любая пойдет, получше тебя, да и помоложе, знаешь, — сказала Тереса.
— И отлично. Но это я сама от вас ухожу.
— Нет, милая, это я тебя прошу убираться.
— Я просто не успела сказать, что я ухожу.
— А я успела, так что не мешкай. Тереса ушла.
— Подарки я забираю с собой!
— Какая досада… И все это из-за меня. Куда же вы пойдете? К сожалению, я не могу предоставить вам пристанище, но позвольте мне хотя бы помочь? — растерянно сказал Луис.
— Какой вы странный человек. Кто вы?
— Я готовлюсь принять сан священника.
— Какая жалость…
— Почему, сеньора?
— Чтобы стать священником, ведь надо отказаться от земной любви?
— Я отказался от нее.
— Как вы решились на это?..
— Странствующий рыцарь отказывается от большего. Он живет и бедствует не под надежной кровлей, а под открытым небом. Бесприютный, полураздетый, подставляет грудь лучам палящего солнца! — вмешался Санчо.
— Не стану спорить, — сказал Луис.
— Однако вы изволили выразиться, что терпеть не можете таких, как Дон-Кихот.
— Я сказал только, что не являюсь его приверженцем.
Тут внезапно и с крайней горячностью вмешалась Санчика: Это одно и то же! Могли бы сказать попросту, лихой наскок лучше доброй молитвы!..
— Если вы настаиваете, я могу пояснить, что мне всегда не нравилось в странствующих рыцарях. Когда их ожидало приключение, сопряженное с опасностью для жизни, то, вместо того, чтобы поручить себя богу, они поручали себя своим дамам. Да еще с таким жаром, точно эти дамы их божества!
— Но так тому и быть надлежит! Иначе странствующий рыцарь покрыл бы себя позором! — озадаченно сказал Санчо.
— Почему же?
— Вот и видно, что вы на волос в этом не разбираетесь. Не может быть странствующего рыцаря без дамы! Если бы даже существовал такой рыцарь, он был бы незаконный! — настаивала Санчика.
— Ах, что вы все можете знать о Дон-Кихоте? — воскликнула Альдонса.
— А вы что можете знать? — спросила Санчика.
— Может быть, я такое знаю, что вам никому и не снилось!
— Ну, что?
— Такое, что у вас глаза на лоб полезут!
— Ну — что, что?..
— А вот не скажу.
— Не удивляйтесь, это она напоминает нам еше раз, что она его дама. Его королева и госпожа. Бесподобная в силу своей родовитости, — обратилась Санчика к Луису.
— Родовитость — это для него не имело никакого значения.
В упор глядя на Альдонсу, продолжала Санчика.
— Ее волосы, говорил он, золото. Очи ее — два солнца. Алебастр — ее шея, мрамор — перси, слоновая кость — ее руки!
Все это так не соответствует облику Альдонсы, что она оборвала Санчику.
— Заткнись, надоела.
— Те же части тела, которые целомудрие скрывает от взоров, таковы, что воображение вправе лишь восхищаться ими! — не унималась Санчика.
— Конечно, все это говорится в насмешку надо мною. Но получается так, что это насмешка над человеком, которого уже нет в живых. И все-таки он назвал Дульсинеей меня, а не Санчику или кого-нибудь еще! — сказала Альдонса Луису.
— Ха-ха-ха! — не знала, что возразить Санчика.
— Ха-ха-ха! — отвечала ей Альдонса.
— А однажды он сказал: одному Богу известно, существует ли на свете Дульсинея или не существует.
— Не говорил он так, — сказала Альдонса Луису.
— Это написано черным по белому! И это всем известно! Альдонса немного растерялась.
— Куда же он тогда посылал тебя, Санчо? И просил, чтобы ты ему рассказал, как я тебя приму? Объясни своей остолопке!
— Он просил рассказать, как ты меня примешь, изменишься ли в лице, услышав его имя, не будешь ли переступать с ноги на ногу, не превратишься ли из ласковой в суровую или же, напротив того, из угрюмой в приветливую.
— А в таком случае вы должны каждый день его благодарить за то, что он вас так прославил! А вы вместо этого ловите женихов! Не успел войти человек в дверь — неизвестно кто и что, — уже приклеилась! Если вы т о г д а ничего не поняли, то хоть теперь хранили бы ему верность! Хоть для виду, для людей! Все равно ведь и возраст уже не тот! — вопила Санчика.
— Что же мне, не жить теперь? Раз он умер, так и мне помирать?
— Живите, как хотите, только не позорьте его память перед целым светом!
— И тебе я не угодила? Все недовольны, все. Каждому чего-нибудь от меня надобно. Нет, милые, нет, начитанные, не буду я ради вашего удовольствия кого-то из себя изображать. Надоело, умные вы мои, надоело, знатные вы мои!
Вошла Тереса с девушками.
— Ты еще здесь?
— Я собираю свой багаж.
— Багаж она собирает, — усмехнулась Тереса.
— Свой багаж она собирает! Собирает багаж! — поддержала ее одна из девушек.
— Сюда пришла — все пожитки умещались в одной руке. А теперь собирает багаж, никак не соберет, — ядовито сказала Тереса.
— Повытряхивала клиентов, попользовалась, — сказала вторая девушка.
— Ну, ушлая девка! — сказала третья девушка.
— Они сами мне дарили! — отбивалась Альдонса.
— Другим почему-то не дарили!
— Нашли чем хвалиться!
— Потому что мы честные девушки! Мы честные девушки! Мы честные девушки!
— Это как надо понимать, намек?
— Можешь понять, как намек, — сказала Тереса.
— Да вы что?.. Вы как?.. Вы с кем?.. — растерялся Санчо.
— Пока она здесь наряжалась и баклуши била, пока я ее берегла… чтобы выдать замуж по обоюдной любви, эти девушки тем временем трудились с утра до ночи, приносили людям пользу, и в альбоме жалоб одни только благодарности! возмущалась Тереса.
— Мы честные девушки! Мы честные девушки! Мы честные девушки!
Альдонса посмотрела на Луиса.
— Неужели вы не заступитесь за меня? Неужели вы не проучите их?
— Действительно, сеньоры, раз уж все произошло, собственно, из-за меня, то я попросил бы вас… — начал Луис.
— Пошел отсюда, пошел, бог подаст, — прикрикнула на него Тереса.
— Как вы разговариваете с ним! — возмутилась Альдонса.
— И ты пошла. У нас приличный дом, наших девушек все знают.
— Нас все знают! Нас все знают!..
— А ты — пока еще неизвестно, кто такая!
— Пока еще неизвестно! Пока еще неизвестно!
— Ну, видно, такой век, что самой надо защищать свою честь, — решила Альдонса.
Она скинула ботинок, схватила его за шнурок и, вертя им как пращой, бросилась на своих обидчиц.
Потасовка пошла всерьез. Досталось в ней всем, заодно и Санчо, и Луису.
— Тихо все! — закричала Тереса. Все стихли.
— Двадцать четыре минуты тебе на сборы!
— Ухожу я от вас, и отстаньте от меня. И всем передайте, дону Лопесу, и дону Умильосу, и тому старикашке, не помню, как звать, и мальчонке Маттео привет и пожелания. Ушла я. Нет меня. А куда — неизвестно.
— Дульсинея, идите в монастырь, — сказал Луис.
— Что?
— Вам заморочил голову Дон-Кихот, теперь вы морочите головы всем вокруг, — идите в монастырь, Дульсинея!
— Этот тоже станет меня учить? Посмотрите-ка на него хорошенько. Да ведь мне сначала показалось, что он смахивает на тощего Дон-Кихота! Когда он сломал замок и, блистая взглядом, спросил: «Кого обижают здесь?..» — как хорошо было, как красиво… Как зяблик на ястреба, так он похож на Дон-Кихота! Как хомяк на ягуара! Как я на Дульсинею! Да и выше тот был, на добрый локоть длиннее, этому еще расти и расти! Тот безумный был, а этот рассудительный, как лавочник. Тот был гордый, а этот жалкий, как погонщик мулов!..
— А почему я должен быть на него похожим? Объясните мне это, черт побери!
— Давайте-ка собираться, Санчо.
— Нет уж, ответьте мне, ради бога. С какой стати я обязан быть на него похожим!
Однако Альдонса уже не обращает на него внимания.
— С меня достаточно, что я похож на самого себя.
Альдонса и Санчо молча укладывают пожитки, словно в комнате, кроме них двоих, никого нет.
Луис, чтобы не мешать, то попятится, то повернется вокруг себя, не сводя глаз с Альдонсы. Та не замечает его. Да и Санчику тоже.
— Что я мамке-то скажу-у! — заплакала Санчика.
— Скажи, как я служил моему господину Дон-Кихоту, так я буду служить госпоже моей Дульсинее Тобосской, которая являет собой образец красоты, обиталище добродетели и воплощение всего непорочного и усладительного, что только есть на земле!..
Горы и долы
В 1616 году горы и долы являли собой странное зрелище. Отвергнутые поклонники Дульсинеи, наследники лучших домов Толедо, оглашали окрестности своими стенаниями. То тут, то там слышались тяжкие вздохи и скорбные песни: «О, Дульсине…», «О, несравнен…», «О, бессердеч…» Коленопреклоненные, а то и распростертые ниц, они восклицали:
— Едва кто-либо из нас выскажет ей свои чувства, как он уже летит от нее подобно камню, выпущенному из катапульты…
— И это более гибельно, чем если наши края посетила чума… О, Дульсинея!.. О, прелестная дева! О, безнадежность!
— Она бежала от нас в горы и долы, оделась в пастушеское платье и пасет коз. Но мы отправились сюда, вслед за нею, как приговоренные…
-… как обреченные…
-… навеки!.. Иной всю ночь напролет у подошвы скалы или под дубом не смыкает заплаканных очей своих, иного нестерпимый зной летнего полдня застает распростертым на раскаленном песке…
— Но равнодушно проходит мимо тех и других свободная и беспечная Дульсинея. О, несравненная! О, жестокая!… И мы все невольно спрашиваем себя: когда же придет конец ее высокомерию?
— О, мука! О, бездна отчаянья! Кому удастся сломить строптивый ее нрав и насладиться необычайной ее красотой?..
Небеса затянуты тучами. Альдонса и Санчо сидят на расстеленной овчине перед костром. Дует ветер. Стенают влюбленные.
— Мне страшно, Санчо. Когда они стенают днем — ничего. А к ночи словно какие-то зловещие духи взывают из подземелья. Надо договориться, чтобы вечером они прекращали. Им ведь тоже надо спать. Или они сменяются? Эх, сеньоры! Нельзя ли потише?..
Стенания становятся потише.
— Послушала бы ты, как стенал Дон-Кихот. На этой лужайке, которую он избрал, он так безумствовал, что этим учиться и учиться.
— Сравнил. Как он безумствовал — и как эти. Расскажи, как он безумствовал, только погромче, чтобы заглушить этих бездельников.
Санчо изобразил стенания Дон Кихота.
— Эти места, о небо, я выбираю, чтобы оплакивать посланное мне тобою несчастье! О одинокие деревья, друзья моего одиночества! Преклоните слух к стенаниям несчастного любовника! Не мешайте мне роптать и жаловаться на жестокий нрав прелестной мучительницы! Восплачьте вместе со мною над горестным моим уделом.
Привлеченные громкостью и разнообразием этих стенаний, отвергнутые кабальеро подходили и слушали.
— О Дульсинея Тобосская, день моей ночи, блаженство муки моей, звезда моей судьбы! Да вознаградит тебя небо счастьем и пошлет оно тебе все, чего ты у него попросишь! (Альдонса отерла слезу). О чем ты думаешь в эту минуту? Может статься, ты думаешь о преданном тебе рыцаре? Каким блаженством ты воздашь за мои страдания? Каким покоем — за мою заботу? Какою жизнью — за мою смерть?..
Было тихо. Слабо шумели деревья, слабо рокотал ручей — но это тоже была тишина.
Альдонса сказала поклонникам:
— Видите, как хорошо мы провели время без ваших ненужных криков? Так мы могли бы собираться каждый вечер.
— Смешно спорить, Дон-Кихот Ламанчский, — достойный пример для всей нашей аристократической молодежи, — сказал поклонник.
— Но мы, как бы ничтожны ни были, — живы. А он, один из славнейших людей, которые когда-либо появлялись на земной поверхности, — скончался, сказал другой поклонник.
— О, несравнен…, — начал еще один.
— Перестань.
— О, прекрас…
— Сказала, хватит.
— Нет его. Умер великий сын Ламанчи.
— Погребен. Почил.
— Лежит, вытянувшись во весь рост, и не может больше выехать с копьем на осиротевшую землю.
— Подойди-ка, Бенито. Опять порван плащ? Дай зашью, — сказала Альдонса.
— Не стоит, я заколю его булавкой.
— Он дальше поползет, потом и вовсе не зашить. Поклонник, стесняясь, снимает плащ.
— Да ты штаны прожег! Ну вот, надо ставить заплату. Скажи Кристине, чтобы в следующий раз принесла кусок желтого сукна. (Зашивая плащ) Антонио, что ты смотришь в котел? Ты голоден?
— Нет.
Альдонса достала кусок мяса: Возьми.
— А мне? — сказал еще один поклонник.
— А тебе Бенито даст.
— Не дам.
— В прошлую субботу Антонио тебе давал пирог?
— А в воскресенье я ему дал бобов.
— Тогда я не буду зашивать тебе плащ. Поклонник Бенито, ворча, поделился едой.
— А ты, Антонио, скажи, чтобы Беатриса приносила тебе не сладости, а мясо, тогда тебе не придется попрошайничать. Ну, идите, укладывайтесь спать. Фернандо, у тебя все еще нет одеяла?
— А я плащом укрываюсь.
— Да он не греет совсем, схватишь люмбаго и согнешься пополам. И потом, ты же его мнешь, гладить тут негде.
— Доброй ночи, Дульсинея.
— Доброй ночи, несравненная.
— Спокойной ночи, жестокая…
— В десять часов всем спать, я проверю. И стенать ночью не надо.
Поклонники для приличия выразили недовольство.
— Я все равно сплю и ничего не слышу.
Когда все разошлись, она сказала, обращаясь к Санчо:
— Иной раз думаешь: выбрать кого-нибудь из них — и дело с концом. Только знаешь, чего я боюсь? Женится он, а ничего особенного во мне не найдет. И разозлится, что так по мне убивался. И станет потешаться надо мной и всем рассказывать…
— Да ведь мой господин еше больше по тебе убивался.
— Он надо мной не посмеялся бы. И потом, я ведь первая у него была бы? Если ты не наврал.
— Первая, первая. Да и последняя, пожалуй.
— Он ведь умер — так сладкого и не знал? — смущаясь и жалея сказала Альдонса.
— Так и почил.
Из темноты донеслись возгласы: «Что?..», «Кто?..», «Где?..».
К костру вышел Луис, медлительный, вялый.
— Там какие-то люди…
— Это ничего, это неважно…
— Здравствуйте, Санчо. Вы просили меня прийти сюда. То есть, это вы просили меня прийти?
— Простите меня за то, что я сказала, будто Дон-Кихот был выше вас, попросила Альдонса.
— Я не обиделся.
— Я подумала, что вы могли бы здесь отдохнуть. В горах и долах можно без помех предаваться размышлениям…
— Но для этого нужна чистая совесть. А я сейчас терзаюсь угрызениями совести. Может быть, вы, Альдонса, и вы, Санчо, праведней меня и потому не терзаетесь угрызениями совести? Или вы тоже терзаетесь, как и я?..
— Я — как и вы.
— Что — как и я?
— Тоже терзаюсь.
— Но вы, наверное, не так терзаетесь.
— Наверно, не совсем так.
— Парень запутался в собственных подтяжках. Нет, Альдонса, эта блошка не для твоей постели, — сказал Санчо.
— Не берись, дуролом, рассуждать о том, чего не в силах понять своей нестриженой башкой! Иди лучше присмотри за козами, у этих разгильдяев они разбегутся. И не возвращайся сюда, безбожник, покуда я сама тебя не позову!
Санчо, ворча, ушел.
— Говорите, Луис…
— Понимаете, что меня мучает… Не является ли мое стремление к праведности лишь гордыней?
— Нет! Не является! — убежденно сказала Альдонса.
— Но может быть, я просто считаю себя лучше своих ближних?
— Нет! Вы не считаете этого!
— Но кто поручится…
— Я поручусь.
— Вы же не знаете, что я хочу сказать!
— Я знаю о вас почти что все. Вы даже можете ничего больше не говорить. Бедный мой. Так мучается. Не надо, зачем это! Хотите, я буду вас успокаивать? Только ничего не надо стыдиться. Говорите мне все, и тогда все можно уладить. Мне почему-то кажется, что со мною вам было бы хорошо.
— Странно, вы как будто забыли. Я не принял еще духовный сан, но осуществление моей мечты уже близко.
— Я знаю, что моя симпатия к вам — это тяжкий грех.
— Вы ни в чем не виноваты. Но лучшее, что мы можем сделать — это проститься.
— Я знаю, вы потому уходите, что я не стою вас. Я все равно не смогла бы до вас возвыситься. Нет науки, которую бы вы не изучили. Нет тайны, которая была бы вам недоступна. Вы все равно покинули бы меня.
— Я не потому ухожу от вас, что вы недостаточно образованны. Я ухожу, чтобы выполнить свой обет.
— Тогда — конечно, вы должны уйти. И я должна только радоваться этому. Я уже почти радуюсь. Если же я умру из-за вас, то надеюсь, что милосердный Бог позволит мне увидеть вас на небесах…
Она замотала лицо платком, чтобы не было видно, как оно исказилось рыданиями. Если до сих пор дурной человек мог бы заподозрить, что все это игра и кокетство, то теперь всякий понял бы, что она страдает.
Луис, стоя над нею, растерянно, но с некоторым раздражением бормотал:
— Что такое. Что такое…
Санчо, которому не дозволено было возвращаться, поносил его издали:
— Натворил же ты дел, собираясь в попы. Наш ангелочек умирает! Сегодня несколько раз падала в обморок, и все по твоей вине. Она никому не давалась в руки. А ты пришел и заморочил ее своей святостью. Все твое богословие только свист, которым охотник заманивает в силок глупых дроздов!
— Я же и виноват!? Вот это да. Я ее предупредил, вы сами слышали, сказал Луис.
— Если ты так любишь Бога, то зачем причинять зло божьему созданию? И это, ты считаешь, милосердие? Это — злодейство!
— Возможно, вы отчасти и правы. Возможно, я нарушаю заповедь неба. Но с другой стороны? Забыть творца ради его творения?..
— Лучше всего тебе отсюда убраться. Но сначала хотя бы успокой ее.
— Но как?..
— Бог подвесил тебе такой язык, что ты живо вобьешь ей в мозги все, что захочешь.
Он скрылся, потому что Альдонса стала разматывать платок, нарыдавшись вволю.
— Я обещала радоваться, что вы уйдете… Но сейчас, когда я замоталась платком, я вообразила, что вы уже ушли и я одна в темноте, — силы оставили меня и я поняла, что не могу!..
— Не пристало вам менять такого пылкого обожателя, как Дон-Кихот, на такую незначительную фигуру, как я.
— Не поминайте этого имени понапрасну.
— Если кто и поминает это имя надо не надо, так это не я, а вы.
— Я сейчас даже не заикнулась о нем! А вот зачем вы вспомнили о нем ни с того ни с сего — это мне непонятно.
— С какой стати я стал бы о нем вспоминать, если бы не вы? Если хотите знать, то я лично полагаю так: сидел бы он дома, растил бы детишек, занимался бы хозяйством и перестал мыкаться по свету и смешить добрых людей.
— Когда его поносят разные буквоеды, то я не придаю этому никакого значения, — надменно сказала Альдонса.
— Я и не рассчитывал на это.
— Он был рыцарь и ради этого презрел житейские блага, но не честь.
— Вы неплохо усвоили роскошный стиль вашего любимого романа. Но что стоит за этими словами?
— Он выпрямлял кривду, карал дерзость и понимал чудищ.
— Начинается.
— Он всем делал добро и никому не делал зла.
— Честь и хвала.
— И все чтят его память. Посмотри вокруг. Сейчас темно, не видно. Все в его честь в меня влюблены и стенают. Эй!
В ответ послышались вздохи и восклицания сквозь сон: «О, несравненная!..», «О, жестокая!..»
— А хочешь знать мое мнение об этой коллекции оголтелых шоколадных тянучек? Для них тщеславие важнее их сластолюбия. Не тебе они поклоняются, а себе. Не перед тобой они лезут из кожи, а друг перед другом. Собой они любуются, собой кичатся и сами поражаются тому, как они благородны.
— Почему же… Среди них есть неплохие юноши, — вступилась Альдонса.
— Нет!
— А вы, оказывается, злой.
— Прости меня, боже! Эти игроки в мяч и танцоры подвергли испытанию мою кротость!
— А знаете, почему вы такой злой? Вас, наверно, мало любили. Вас когда-нибудь любила женщина?
— Нет. И слава богу. Хоть в этом мне повезло.
— И вы отказались от этого навсегда?
— Как видите.
— Вы отказались от всех женщин? От тихих, стыдливых женщин, которые скромно опускают глаза? И от простушек, которые на самом деле совсем не простушки? И от образованных, воспитанных девушек? А заодно — от не ученых ничему, а милых только своей простотой? От полных, от стройных, от белоснежных, золотистых, смуглых, от молоденьких и зрелых?
— Да, от всех. От городских и деревенских, от гулящих и старых дев, а заодно от негритянок, — раздраженно сказал Луис.
— А если вы когда-нибудь познакомитесь с великосветскими дамами? Говорят, они одеты в шелк и кружева, а не в ситец и муслин. Свои белоснежные плечи они не прячут под такими косынками. Они живут в будуарах, рассуждают о политике и поют, как канарейки. Сразу станете никуда не годным и легкомысленным священником и будете забывать свой долг на каждом шагу.
— Если мне и суждено встретить этих женщин — не опасайтесь, ничего не случится. Мое воображение рисовало женщин более изящных и умных, чем те, что встречаются в жизни. Я знал цену приносимой мною жертвы и, пожалуй, даже преувеличивал ее. Но Бог отвратил меня от земной любви, чтобы я любил только его.
— Как он вас отвратил, Луис? Скажите мне. И я больше не буду к вам приставать, — мягко спросила Альдонса.
Луиса прямо-таки поводило от нежелания говорить об этом. Он потянулся, хотел было уйти прочь, обернулся…
— Хорошо, я скажу вам. Но только для того, чтобы покончить с этим разговором.
— Да.
— Ну, жила на нашей улице жена угольщика. То есть жил угольщик, и у него была жена. Но это, разумеется, должно быть между нами. Она полюбила меня.
— Она вам об этом сама сказала?
— Она сказала, чтобы я пришел к ней в кладовую. И я пришел. Но Бог воспрепятствовал нашей любви.
— Как он это сделал, милый? Было какое-нибудь знамение?
— Нет, но… Он не позволил мне ответить на ее любовь, как должно. И жена угольщика посмеялась надо мной.
— Еще замужняя женщина. Колодец греха.
— Кладезь греха, — поправил Луис.
— Она хоть красивая была? Кладезь распутства.
— Ничего. У нее только были чуть приподняты плечи, так что голова оказывалась обращенной немного вниз, как будто она что-то искала под ногами. Но это не имеет значения.
— Она не любила вас.
— Зачем же она позвала меня в кладовую?
— Может быть, она всех туда звала?
— Но над ними же она не посмеялась.
— Наверное, им не было нужно, чтобы их любили.
— Но и мне не было нужно! Мне и теперь не нужно! Как жаждущая лань ищет путь к источнику, так душа моя ищет Бога!..
— Она смотрела на вас, эта угольная яма?
— А как иначе, наверно, смотрела.
— Она смотрела на вас, например, как я на вас смотрю?
— Откуда я знаю, там было темно.
— Она не любила вас.
— Но это теперь уже не имеет значения, я говорил вам не раз! К небу обращается душа моя и молит дать ей покой!
— Сколько времени вы мучились, родной мой…
— Не мучился я, черт побери, не мучился! Когда я решил уйти от земной суеты…
— Зачем же, родной мой, вы решили?!
— А ради покоя и счастья, несравненная!
— А если вы напрасно решили?
— В моей душе сомнений нет.
— А если вы начнете сомневаться?
— Почему это я вдруг начну сомневаться?
— А если вы поймете, что вас любят?
— Довольно. Вам что-то померещилось, и вот вы морочите себя и меня.
— Так померещилось, что я четвертую ночь не сплю.
— Тогда давайте говорить начистоту. Ведь причина-то вся только в том, что я на кого-то там оказался похож!
— На Дон-Кихота вы похожи, родной мой.
— Но неужели вы не понимаете, что видимость обманчива! Смешно же! Пускай даже внешне и похож. Но по существу же все наоборот. Решительно все! И едва только вы это сообразите, как тут же меня возненавидите и начнете хихикать за моей спиной точно так же, как жена угольщика.
— Нет уж.
— Но вы обо мне вообще никакого представления не имеете! В ваших глазах я ничтожный семинарист, с которым вы можете делать все, что вам заблагорассудится! Так нет же, о прелестная! Тут ты здорово ошиблась! Может быть, вот здесь (он указал на свою грудь) — я свободнее и мудрее вас всех! Вы жалеете меня, я несчастный человек? Что же! Я, как тайный дар, храню свое право быть несчастным! И это мое дело. И это никого не касается.
— Как вы хорошо говорите.
— Но что вы ответите мне на это?
— Может быть, я не все поняла — не сердитесь, но я… старалась бы, чтобы вам не было со мной скучно.
— Да не об этом же!..
— Простите меня за эту необразованность. И простите, что я не являю собой венец красоты, тем более что годы идут. Конечно, волосы мои не золото. Санчика права. Но все-таки… Видите, какой отлив? Рыжина. Это сейчас модно. Да и руки, что поделаешь, не слоновая кость, но во всяком случае посмотрите сами. А те части тела, которые целомудрие скрывает, — особенно восторгаться, может быть, и не стоит, но и стыдиться тоже нечего.
— Боже, не покидай меня! Приди ко мне на помощь! Обрати ко мне свои очи, и я буду спасен! Дай мне силы устоять!
— Лишь одному человеку я могу отдать все это и вдобавок свободу. Вы для меня умнее, красивей и возвышенней всех, кто домогается моей руки.
— Не хватало того, чтобы вы сравнили меня с этими скотами!
— Да вы что? Ревнуете?!
— К ним?.. Они мне безразличны, как бродящие по лугу коровы. Как козлы! Как ослы! Но они сыты и довольны, они — стадо, а я всегда буду один.
— Если бы вы захотели, вы были бы не один.
— Какой-то абсурдный разговор! Ночью! В поле! Мне холодно! Когда все это не имеет смысла! Предположим, я даже что-то испытывал бы к вам.
— Я знаю это! Вы и виду не подаете, но я чувствую.
— Я говорю — предположим! Ваша наивность, ваша сердечность и, что греха таить, ваше расположение ко мне — и все это в такой обстановке, — да, предположим, привлекает меня к вам.
— А меня как влечет к вам, родной мой…
— Я сказал — не влечет, а привлекает.
— И меня привлекает. И тянет.
— Господи, ты решил наказать меня! Я заблудился! Я погибаю! Но я должен с этим бороться!
— То есть…
Альдонса положила ему руки на плечи, приблизила к нему лицо.
— Но…
Когда же они оторвались друг от друга, то не сразу смогли заговорить. Запинаясь и дрожа, словно в ознобе, Альдонса сказала:
— Кто как умеет… тот так и верует. Я верующая в любовь и ласку. А кто никого не любит — тот грешник.
— Да, я мог бы полюбить вас так, как едва ли смог бы кто-либо другой! Никогда, ни в чем не обидел бы вас, как сейчас я молюсь небу!.. Но вот это как раз мне и страшно.
— Я не понимаю…
— Это трудно объяснить, но… я попытаюсь. Люди любят по-разному. Одни ищут наслаждения и счастья для себя или прежде всего для себя. А другие, и я такой, жаждут радости только для любимого человека. Если он счастлив моей любовью — то и я счастлив. Если ему плохо — то мне хуже стократ.
— Как это хорошо!
— Но в том-то и дело, что я не уверен, что смогу принести вам счастье. Я страшусь, что вам со мной не будет так хорошо, как с другим. Хотя бы с этими молодцами, которые кружат над вами. Я не могу об этом не думать.
— Как это хорошо!
— Чем же это хорошо?
— Потому что тогда все в порядке.
— Почему ж все в порядке?
— Потому что все это неважно.
— Да как же, черт побери, неважно!
— Потому что я точно такой человек, как вы говорили. Если только вам будет со мной хорошо, так и мне будет хорошо. Если только вы будете со мной счастливы, так и мне больше ничего не нужно.
— Если бы это была правда. Ах, если бы вы не обманывали меня и себя… Ведь ничего неизвестно. Ведь мало ли, может быть, это, не знаю, в каком-то смысле и судьба?.. — в сильном волнении сказал Луис.
Луна медленно опускала веко, гася свой свет.
— А жениться на мне не обязательно. Пускай это место и послужит могилой моей чести.
Стало совсем темно, чтобы ничего не было видно.
Но вот сквозь длинную щель в лучах горы и долы осветила заря. Послышались вздохи и зевки просыпающихся поклонников, блеяние коз и первые, еще сонные, стенания.
— Санчо!
Это кричала Санчика. Она подошла к погасшему костру, делая вид, что не замечает спящих Луиса и Альдонсу.
Луис и Альдонса одновременно повернулись на другой бок, как супруги, привыкшие спать на узкой постели, или как любовники, для которых и широкое поле — тесное ложе любви.
— Санчо! — кричала Санчика
— Мы спали! — проснулся Луис.
— Солнце мое, — проснулась Альдонса. Луис повернул ее к себе.
— Светло.
— Все спят.
— Здесь Санчика.
— Она не видит.
— Вижу, — возразила Санчика.
Из-за пригорка показался хмурый Санчо.
— Я за тобою, отец. Видишь, ты уже не нужен здесь. Сходились озябшие поклонники. При виде Альдонсы и Луиса остолбенели.
— В чем дело?..
— Что такое? Кто такой?
— Да смотрите же, кабальеро!
— Эй, все сюда!..
— Надо им сказать, — решила Альдонса.
— Кабальеро, произошла неприятность, — сказал Луис. Поклонники стояли плечом к плечу, как в строю. Альдонса встала, закалывая волосы.
— Я была ему женою в эту ночь.
— Не надо так говорить, Дульсинея, — сказал поклонник.
— Всю ночь я была ему женою.
Поклонник обратился к Луису: Дульсинея шутит?
— Нет.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что опозорил ее?
— Если вам кажется, что это позор, то считайте так.
— Не хочешь ли ты сказать, что под покровом темноты лишил Дульсинею чести?
— Я сама просила его. Я сама выбрала его из всех. Кто запретит мне любить того, кого я хочу? Поклонники молчали:
— Никто из вас не может распоряжаться мною. Никто не может меня судить. Никому не давала слова.
Поклонники стали говорить между собой — негромко, не рассчитывая на то, что она их поймет:
— Вот кто был для нас символ чистоты и верности.
— Вот на кого молилась молодежь.
— Опорочила достоинство испанских женщин.
— Втоптала в грязь.
— Грешно презирать народ, но я всегда говорил: крестьяночки — это прелестно, но — предпочтительнее в своем амплуа.
— Народ здесь ни при чем.
— Завтра мальчишки будут носиться по улицам Толедо и орать, что Дульсинея оказалась потаскухой.
— Гулящая девка.
— Распутная тварь.
Тогда тощий Луис ринулся на врагов. Поклонники, словно этого только и ждали, загоготали, заулюлюкали и принялись швырять его один к другому, другой к третьему, и он летел, кувыркался и бежал стремглав, как слепой, вытянув перед собой длинные руки, чтобы получить злобную зуботычину и, крутясь, лететь обратно.
— Вероотступники! — вопила Альдонса. — Богомерзкие твари! Низкопробная чернь!..
Поклонники швырнули Луиса на землю и угрюмо стояли над ним.
Санчо наклонился, привычно ощупал его.
— Выше голову, государь мой… Все, кроме смерти, поправимо. Возблагодарите Бога за то, что Он послал вам такое же злоключение, какие то и дело посылал Дон-Кихоту.
Луис сказал голосом слабым и глухим, как бы доносившимся из подземелья…
— Дульсинея… Тобосская… самая прекрасная женщина в мире. А я… самый несчастный человек на свете. Но мое бессилие… не должно поколебать эту истину.
Альдонса упала ему на грудь.
— Как хорошо ты это сказал.
— Бог сражений допустил, чтобы меня постигла подобная неудача, — сказал Луис почти в бреду.
— Ты ринулся на них как молния!
— Я ринулся?
— Еще как! Но их было много, а ты один.
— Их было… много.
Альдонса стала приводить в порядок растерзанного Луиса.
— Мы уйдем отсюда. Мы далеко пойдем, Санчо. Тебе будет трудно с нами.
— Далеко мне не дойти, — согласился Санчо.
— Да и денег нет. Вдвоем как-нибудь перебьемся, а втроем…
— Втроем трудно.
— К тому же и дочка у тебя.
— Кто же и последит за ней, как не я.
— Но где нам еще отыщется… такой рассудительный, дальновидный… добродушный и преданный человек… как Санчо Панса. Да и я… привык уже к нему. — сказал Луис.
Санчо сразу же принялся собирать пожитки.
— Благодарю вас, государь мой. Ты должна понимать, дочка, странствующий рыцарь без оруженосца… никто.
— Дороги обезлюдели, крестьяне пошли либо в нищие, либо в бандиты… Аристократы бродят по дорогам с ножами… Все, как могут, пробавляются за счет своих близких и никто не хочет заниматься делом… Обрати внимание, верный и преданный мне оруженосец, как мрачна эта ночь. Она может вселить ужас в любое сердце. Но все это лишь укрепляет мой дух, чтобы мстить за все обиды и утеснения, чинимые бессовестными людьми, — говорил Луис.
Понурясь и заложив руки за спину, поклонники бродили вокруг. Они вздыхали и вполголоса ругались. Как это было непохоже на прежние любовные стенания! То тут, то там слышалось: «О, гнусн!..», «О, дьявольщ…».
Молодо, гневно на них напустилась Санчика.
— Стыдно смотреть на вас, кабальеро! И хотелось бы пожалеть, а не могу. Что привело вас сюда? Вы надеялись, что если станете поклоняться этой женщине, то и сами сделаетесь похожи на знаменитого и славного Дон-Кихота? Потому что и он так же поклонялся ей? Да ведь он не ее любил, а только свою мечту! А вы видели ее каждый день, вы знали, что поклоняться тут ровным счетом некому! Что же вы теперь удивляетесь и ужасаетесь?.. Дома вас ждут юные невесты! Но вам нужно не свое, а чужое. Пусть подпорченное, но только чужое. Что же вы так горюете? Оно и оказалось чужое, а не ваше. Ведь она и оценить вас не смогла, не по уму ей это. Она только преспокойно выслушивала ваши стоны и вздохи, как будто они достались ей по праву!
Однако кабальеро, все как один, смотрели не на нее, а на Альдонсу. Она отерла платком запыленное лицо Луиса, затем она подколола ему изорванную одежду. И подняла его на ноги. Она смотрела на него то как мать, то как дочь.
Опираясь на Альдонсу и Санчо, Луис побрел прочь.
Поклонники хохотали и подсвистывали им вслед.
История постановок
| 1971 | МХАТ им. М. Горького (Москва)
Режиссер — Олег Ефремов
Режиссер-стажер — В. Кашпур Художник — И. Димент Действующие лица и исполнители: Альдонса — Татьяна Доронина Луис — Олег Ефремов Санчо Панса — Владимир Кашпур Жених — Николай Пеньков, Вячеслав Невинный Санчика — Нина Гуляева М. Яншин, В. Орлов, А. Зуев, А. Георгивская, Л. Губанов, И. Коломийцева, Е. Королева, Д. Шутов, А. Борзунов, Л. Стриженова |
| 1973 | Театр им. Ленсовета (Ленинград)
Постановка – Игорь Владимиров
Режиссер — Р. Либуркин Действующие лица и исполнители: Альдонса — Алиса Фрейндлих Санчика — Галина Никулина Санчо Панса — Анатолий Равикович |
| 1996 | Театр «Балтийский дом» (Санкт-Петербург) |
| 1996 | Алтайский краеведческий театр драмы им. В. Шукшина (Барнаул)
Музыкальная версия — Б. Рацер, В. Константинов
Композитор — Г. Гладков Режиссер — М. Ромашин |
| 1970 | Театр юного зрителя им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург)
Режиссер–постановщик — Александр Кладько
Художник–постановщик — Николай Слободяник Действующие лица и исполнители: Альдонса — Оксана Скачкова Отец — Сергей Надпорожский Мать — Наталья Боровкова Жених — Кирилл Таскин Луис — Виталий Любский Санчо Панса — Андрей Шимко Санчика — Оксана Глушкова Тереса — Елизавета Прилепская Дон Матео — Александр Ленин |
| 2006 | Театр юного зрителя (Екатеринбург)
Режиссер — Дмитрий Егоров
Художник — Анатолий Шубин Композитор — Александр Пантыкин Художник по костюмам — Светлана Лехт Хореограф — Александр Гурвич Действующие лица и исполнители: Альдонса — Мария Бурова Санчо Панса — Владимир Нестеров Санчика — Наталия Кузнецова Луис де Караскиль — Олег Гетце Отец Альдонсы — Владимир Дворман Мать Альдонсы — Екатерина Демская, Ия Шаблакова Жених Альдонсы — Владимир Кабалин Сеньора Тереса — Галина Белова Маттео — Иван Марчуков, Сергей Монгилев Поклонники Дульсинеи Тобосской: Антонио — Виктор Поцелуев Бенито — Евгений Волоцкий Эстебан — Геннадий Хошабов Фернандо — Андрей Жжонов Девушки, волею судеб, оказавшиеся в Доме Изысканных Удовольствий: Эсмеральда — Олеся Зиновьева Лола — Ирина Иваней Кончита — Елена Стражникова |