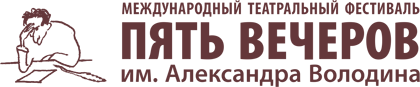Никита Деньгин, Павел Руднев
О володинском фестивале, фестивалях вообще и переменах в театре
С Павлом Рудневым беседовал театральный критик Никита Деньгин

Беседа прошла в самый разгар володинского фестиваля, ровно посередине. А потому первый вопрос напрашивался сам собой.
Мы сейчас находимся в пространстве володинского фестиваля. Как вам кажется, есть ли сейчас феномен театра Володина, и шире — советской пьесы?
Трудно сказать. Сейчас происходит очень интересный процесс — из культуры постепенно уходит представление о Советском Союзе как об империи зла. Но уходит и ностальгическое отношение к этой эпохе. И это очень хорошее явление, потому что все это — начало критического осмысления. Происходит с одной стороны реабилитация советской культуры, а с другой — высвобождение ее из догматических канонов, связанных с советизмами в культуре. С историей начинают каким-то образом работать. Уходят поколения, которые что-то помнили и относились к советскому феномену так или иначе предвзято, приходят новые люди, для которых советская культура исторична, в достаточной мере удалена. Крайне важно и то, что ультра-советские тексты становятся снова актуальными. Вдруг возникает волна интереса к Гельману. Он не очень активно ставится, но к его драматургии возникает огромный интерес. Потому что эта модель драматургии совершенно неповторима. Производственная пьеса оказывается пьесой об устройстве мира вообще, о космогонии, о философии человеческого устройства.
Вы сейчас сказали про производственную пьесу, это меня натолкнуло на одну мысль. В последнее время сформировалось представление о мире как о бесконечной череде будней. Как раньше ходили родители на завод: к девяти туда, в пять оттуда. О чем речь шла, кстати, и в «Блондинке», показанной на володинском фестивале: «я не могу каждый день ходить на работу». Вот это понимание окружающего мира, как какой-то машины, какого-то бесконечного тупого производства, может, это породило интерес?
Может, вполне может. Масса спектаклей появилась про манагерскую жизнь, про новую форму рутины, рабства, про новую форму искусственной организации общества, в котором все тотально подчинены друг другу. И есть ли у человека шанс вырваться из этого круга будней — серьезный вопрос. Есть целый ряд явлений и в театре, и в кино про новых аутсайдеров. О том, как человек добровольно отказывается от благ и нормативов бытия, которые навязываются им работой, мультимедиа, рекламой, прессой и так далее. Культура и общество начинают осмыслять проблему добровольного аутсайдерства. В обществе, которое двадцать лет насильственно капитализировалось, сегодня появился отпор капитализму. И это очень чувствует культура, это очень внятно чувствует современная пьеса, современное кино. Вы верно говорите, ведь и капитализм, и коммунизм одинаково закабаляют человека, делают из него раба. Просто формы порабощения и формы благодарности различны. Например, «Будденброки» в РАМТе — спектакль о том, что труд, семейные ценности, благонамеренность и позитивная регуляция жизни не есть панацея от всех бед. И это очень странно звучит сегодня, когда нам говорят обратное — если ты с трех лет не трудишься, то ничего не добьешься. Путь тотальной регуляции, рассудочного построения карьеры и вообще жизни — тупик. И связь с традицией — тоже тупик. И церковь это тупик. И семья это тупик. Все иллюзии на самом деле.
А что тогда не тупик?
Ты. Не тупик — это ты (смеется). Ты сам! А как иначе? Об этом вся культура XX века глаголет, об этом написан важнейший ее текст — «Над пропастью во ржи». Рассчитывать можно только на себя. Трудно сказать, володинское ли это. Наверное, совсем не володинское. Хотя Володин тоже предлагает формы сопротивления реальности. Вот та же «Фабричная девчонка», которую мы видели на фестивале. Я на этом спектакле внятно осознал, что этот текст, написанный в 1956 году, это первая…
…первая пьеса об аутсайдере?
Да. Ты понимаешь, что эта пьеса заложила основу разрушения Советского Союза. Конечно, был Розов, который уже написал к тому моменту в «Вечно живых», что рядом с героями есть Нюрки-хлеборезки. И что интеллигентный человек, человек высокой культуры, человек искусства не всегда нравственен. А даже напротив всегда — «пятая колонна». И все равно «Фабричная девчонка» очень сильно ударила по Советскому строю. Именно поэтому она много лет искала пути к постановкам и встречалась с очень агрессивной цензурой. С этого и начался Володин, с того как его начали травить. Здесь, может быть впервые в послевоенной стране, полной эйфории и пафоса победы, драматург говорит о тотальном неблагополучии советского человека. Притом, что структура этой пьесы — это абсолютный рай. Что такое рай или детское сознание — непонимание последствий. Выкалывая другому глаз, ребенок не осознает, что глаз больше не вырастет. Что такое взросление? Внятное осознание последствий. Только тинэйджер так может. Володин очень здорово угадывает полное отсутствие рефлексии по поводу собственного поступка. Подруга пишет в газету критическую заметку про Женьку Шульженко, вообще не понимая, что это убьет ее. Она полагает, что это просто критика. После которой не будет ничего.
Причем ни в отношениях, ни с ней лично, ни с коллективом.
Да, они могут дальше обниматься совершенно нормально. У Женьки нет ни стыда, ни ощущения, что жизнь проиграна. И вдруг внезапно рай оказывается адом. Чувство морального превосходства, когда получает поддержку государственной машины, разрушает человека, но более того, разрушает разрушителя. Здесь видно взаимное разрушение судеб. Советский строй, все время обнулявший историю, поплатился за то, что история все время начиналась заново…

«Страна с непредсказуемым прошлым».
Точно. Мы все время обнуляемся, и рай оказывается адом. И наивный человек всегда наступает на одни и те же грабли. Вот это страшно и интересно.
Может, именно из-за того, что было предложено слишком много вариантов, каждый из которых себя скомпрометировал, и возникла потребность в самостоятельном осмыслении истории?
Наверное, да. Мы пришли ведь к тому же самому — к грани ренессанса советской жизни. И человек так же несчастлив, как и в те годы. Абсолютное тождество. Реабилитация лучших произведений советской культуры есть попытка понимания сегодняшней ситуации. Даже «Любовь Яровая». Даже «Кремлевские куранты». Даже «Все остается людям». Безумно интересно заново изучать, заново осмыслять. Есть такое ощущение: мы тождественны в несчастьях. Мы различны в ощущениях счастья. Но в области человеческой боли — важнейшей вещи, которой занимается театр, по моему глубокому убеждению — мы абсолютно тождественны. Мне кажется, что володинский фестиваль именно об этом. Я вообще на этом фестивале в первый раз, Виктор Рыжаков меня столько раз приглашал, а приехать получилось только в этом году. Очень важно, что фестиваль не мемориальный. Я этого страшно боялся. И в первый день мне почему-то показалось, что…
Собираются его знакомые, дяди и тети…
Да. И везде дух воспоминаний.
По волнам нашей памяти…
Да. Вот этого, слава богу, не было. Конечно, поиск «володинского» в театре (основная идея фестиваля) приведет фестиваль в какой-то момент в тупик, как мне кажется. Потому что чем больше ищешь «володинское» — тем больше оно размывается. Как, например, вахтанговские традиции в Театре им. Вахтангова — кто там помнит, что это такое? Никто не способен внятно ничего сформулировать кроме словосочетания «Принцесса Турандот». А что там в ней было, как там играли… Чем больше начинаешь культивировать традицию, тем больше она размывается. Традицию нельзя искусственно насаждать (пауза). Например, «Июль» Вырыпаева. Полина Агуреева читает текст, разрушительный по всем параметрам. Читает, не входя в интонирование, осмысление. И чем глубже она погружается в этот текст — тем больше в ней прорывается школа Фоменко. В итоге текст Вырыпаева — очень жесткий, дегуманизированный — гуманизируется за счет гуманитарной школы Фоменко. Абсолютно бесчеловечный текст начинает играть человеческими красками. Традиция, это то, что прорастает вопреки всему. Как в какой-то момент нам не нравятся наши родители, и мы поступаем вопреки их желаниям. Но в какой-то момент, повзрослев, ты понимаешь, что поступая против родителей, ты сам же их в себе и «прорастил». Твои родители живут в тебе самом…
Или учителя.
Или учителя. Ты понимаешь, что ты подцепил от них школу. Как сегодня справедливо говорил Михаил Дурненков: не нужно искусственно созидать театральную форму. Она внутри тебя, она сама распределит сюжет по логике театра.
Как у Аристотеля: форма есть реализация содержания.
Именно. Возвращаясь к фестивалю: очень важно, что выбирают молодые, очень важно, что есть современные тексты. Фестиваль сам себе закон, никто не посмеет обвинять успешный фестиваль в предательстве каких-то там неведомых теней. Когда молодые ученики Фильштинского и Козлова присваивают себе володинские тексты, и в этом полукапустнике-полуквартирнике делают тексты своими — вот это и есть возбуждение традиции. И Володин меньше всех советских драматургов связан с советской атрибутикой. Он как бы не замечал эпохи. За исключением «Фабичной девчонки», может быть.
Так и есть. Действительно, с советской реальностью он почти не связан — текстами это подтверждается. Вампилов был связаннее. Почему в Иркутске обиделись на «Утиную охоту»…
Марина Дмитревская считает, что у Володина есть внятное и бескомпромиссное, в отличие от современной культуры, разведение добра и зла. Это, конечно, само по себе очень правильная позиция. Сегодня современный человек не видит границ добра и зла, вернее видит прекрасно, он читал те же сказки, но отношение к этим границам изменилось, потому что мы сами не можем разобраться в доброте доброты и в зле зла. Проблема не в том, что мы сознательно что-то путаем. Проблема в том, что сама жизнь доказывает, что все меняется на глазах. Сама природа добра изменилась, как и природа зла. Европа уже пришла к тому, что лучше доверять инстинкту, этому самому «Трамваю „Желание“», а не словам с большой буквы — тогда ситуация выровняется. Уже не важно, как жить, по лжи или не по лжи, главное — выжить. Кислорода ведь совсем не осталось. Все слова с большой буквы в XX веке привели к печам Бухенвальда. Надо перестать доверять им, и больше доверять гуманитарному знанию в себе, может быть, культуре в себе, и тогда выжить станет легче. К примеру, ты ведь понимаешь, что литература XX века выработала философию сопротивления: и новому поколению будущего ГУЛАГа будет уже гораздо легче, потому что Варлам Шаламов уже описал, как следует выживать.
Нулевые вроде как закончились. Наступил 2011 год. Что в театре произошло принципиального за последние десять лет?
Мне кажется, что изменилось очень многое. Мы избавились от кризиса 90-х. Избавились тотально, на всей территории России. Чего не произошло — качественных изменений в режиссерских стилях, в способах актерской игры, в искусстве сценографии. Есть изменения в постановочной технике — это обусловлено колоссальным влиянием западного театра. Москва так просто превратилась в один бесконечный фестиваль. Это тоже плохо. Меняется ведь не только художник, меняется и зритель. Он начинает требовать другого театра. Целая система соблазнов — мы увидели другой театр, европейское разнообразие театральных форм, новый цирк, постдраматический театр, невербальный театр, современную хореографию. Это должно влиять на театральную школу, а она не меняется. Но меняются формы существующего театра. Усилилась связь с музыкальным театром, музыка все реже и реже звучит, как фон, все чаще и чаще становясь частью смысла, образованием структуры спектакля.
Есть необыкновенная потребность зрителя в другом театре. Новый зритель требует театра разнообразного. Прежде всего, 2000-ые прошли под знаком перемены в арт-менеджменте. Это, прежде всего, появление директорского театра. И повышение уровня директората до уровня идеологов. Директор-завхоз, который занимается унитазами и уборкой снега — это вчерашний день. Если директор — не идеолог, то его театр проигрывает. Менеджер стал значить слишком много для театра. Директора научились справляться и с казначейством, и с любыми законами, и с невыплатами, и с властями. С малыми зарплатами, в конце концов. Люди, которые взвалили на себя чувство ответственности за театр, научились вести театр мимо всех реформ.
Театр научился отстаивать себя.
Совершенно верно. Понятно, что от безысходности, от девальвации журналистского слова, критика потянулась в менеджмент, на мой взгляд, абсолютно прагматически. Критика перестала кормить критика. Это отдельная и очень большая тема. Критик становится экспертом, отборщиком, формирует вкусы и так далее. Перестает быть таким барином. Появляются новые театры: «Практика», Центр драматургии и режиссуры, «Doc», театры на основе курсов и так далее. Постепенно монополия репертуарного театра разрушается. И правильно, что она разрушается — театр должен быть разным. Другое дело, что государство не идет на реформирование этой схемы. Чтобы получить от государства денег на театр нужно быть государственным театром. Внутри американской культуры это невозможно. Частный театр, государственный и любительский театр должны быть уравнены в правах. Это колоссальная проблема, какой-нибудь театр им. Моссовета или театр им. Гоголя или театр им. Ермоловой или ваши Театр им. Комиссаржевской, Молодежный театр и так далее стряпают антрепризу за государственный счет….
И в государственном здании.
А какой-нибудь Леонид Роберман должен платить аренду. Если ты делаешь коммерческий театр, ты должен быть уравнен в правах. Почему один это делает без аренды и платит из собственного кармана, а второй получает для этого и здание, и финансовую поддержку государства? Если сегодня российский театр и меняется — то меняется он за счет слова, современной пьесы. Когда меня спрашивают, что такое новая драма, я говорю классическое определение: современная пьеса, написанная современниками о современниках с непременной социально активной позицией. Дальше я добавляю, что новая драма это инфраструктура, это система мер, принимаемых для того, чтобы драматург не остался одиноким. И если есть сейчас настоящий драматург — ему не дадут пропасть. А множество поколений потерялись из-за отсутствия этой структуры. Новая драма всегда себя мыслила не только как движение, обновляющее текст, но и обновляющее репертуар. Драматурги сами решили себя нести — не режиссеры, не критики, не актеры.
В последние годы возникла очень большая волна фестивалей самого разного толка — авторские, тематические, толковые, бестолковые и так далее. Переходит ли количество в качество, какие плюсы и минусы фестивальной лихорадки?
Не мной замечено, что по московским газетам можно чаще узнать о репертуаре театров Лондона, Рима и Парижа, нежели Новосибирска, Владивостока или Москвы. Понятно, что критику гораздо интереснее смотреть новый театр, чем идти на какую-нибудь заранее обреченную премьеру. Москва уже превратилась в какой-то один бесконечный фестиваль. Но в масштабах страны фестивальное движение — это плюс. Потому что только это и может объединить такую огромную страну. Дать понять артисту и режиссеру, что есть конкуренция, есть достижения театра. Полноценная гастрольная деятельность, по которой все так тоскуют, сменилась фестивальным движением. Чем это хорошо — идеей консолидации, идеей экспертизы. Лучшие фестивали пытаются дать артистам дать возможность не только себя показать, но и других посмотреть. Дают возможность критикам это обсудить — это тоже немаловажно. Устная форма критических обсуждений, которая осталась с советских времен — слава богу, что она осталась — дает театрам возможность быть понятым, дает возможность сопоставления всего что делается в остальном мире. Вы совершенно справедливо говорите об огромном фестивальном движении, кажется, что оно огромно. На самом же деле выезжают театры одни и те же, но даже те, кто ездят — делают это два-три раза в год. Очень мало. Театры СНГ находятся в абсолютно чудовищной ситуации. Украина, средняя Азия существуют в культурной изоляции в гораздо больших и страшных формах, чем это есть в театрах Приморья и Кавказа. По этой самой фестивализации видно, что пассивные театры моментально проигрывают. Как правило, уходят в бесконечное самодовольство — нам, мол, ничего не надо. Мы один театр на город, у нас всегда будут полные залы, нам не нужны ни фестивали, ни новые пьесы.
Такие театры, как правило, отказываются от критики.
Да, есть такое. И это самодовольство рождает у артистов ощущение жизни в крепостной системе. Фестиваль это ведь еще и вывоз артистов. И это хорошая «взбучка» для артистов — другой город, другой зал — их нужно завоевывать. Это испытание дает избавление от рутины. Для артиста очень важно не ощущать себя фабричной девчонкой (смеется). Одни уходят в самодовольство, другие — в самоуничижение: мы настолько ничего не знаем, что нам стыдно себя показать, нам стыдно признаться, что нам стыдно (смеется) — примерно таков их внутренний монолог. Театр, который не получает из внешнего мира никаких приветов, кроме кассы, обречен на внутреннюю печаль по поводу себя. «Зачем нам фестиваль, все равно мы там будем самые захудалые» — вот это обрекает и театр, и труппу на полную запущенность.
Хороший фестиваль, если он собран, это ведь еще и срез театра. И это очень любопытно для критика.
Да, конечно. Это знак качества. И присутствие на фестивале сегодня — знак качества. Едешь на фестиваль — ты обязан быть замеченным.
Вы говорили об изменениях в драматургии, а что происходит с актерским искусством? На него ведь очень многое влияет — и телевидение, и масс-медиа, и сериалы…
Во-первых, на артиста очень влияет документальность современного театра. Скажем так, границы актерского натурализма раздвинулись. Натуральность Малого театра выглядит глубоко вторичной по отношению к натуральности артистов театра «Doc». Это очень чувствуется, даже, невзирая на то, как ты относишься к театру «Doc». Театр все время движется навстречу новым формам натурализма. Алла Тарасова, Василий Качалов или Иван Москвин своим современникам казались верхом реализма, но когда ты сегодня слушаешь записи их голосов, то менее всего эту манерность и интонирование хочется причислять к реализму.

Европейский театр очень сильно влияет на физику артиста. Движение становится более важным в современном театре, и какие-то вещи заменяются цирком, телесной эксцентрикой. Повышается роль хореографа. Появляются пограничные спектакли на стыке пластического и драматического театра. Синтез кукольного театра и драматического. Европейский театр сейчас насквозь синтетичен, лишен чистоты жанра. Синтетический артист еще не появился в полной мере, чтобы Россия могла включиться в эту мюзикловую гонку, поскольку артист, воспитанный в ГИТИСе или в ГАТИ не способен играть одну и ту же роль каждый день в течение восьми лет.
Очень здорово, что появляются спектакли, построенные на непсихологическом восприятии текста, на непсихологической трактовке текста, когда текст читается как текст. Тот же «Июль», например. Те же тексты Клима в спектаклях Янковского становятся музыкальной строкой, лирической фразой. Текст становится не столько частью сознания артиста, сколько частью его голоса и способности интонировать и играться словами, порядком слов. Текст освобождается от пут избыточного психологизма.
А что меняется в способе переживания, природе чувств?
Мне легче ответить на этот вопрос на примере драматургии. Классический драматургический текст фиксировал героев в сознании в момент произнесения текста. Высказывание было осмысленным и рациональным. С появлением потока сознания очень многое поменялось в драматургии, и особенно в современной. Язык может быть лишен логики, мотивировки. Язык может фиксировать отупение нашего сознания, внезапное помешательство, тупики сознания. Мы произносим одни и те же слова, блуждаем в них. Язык отражает мерцающее сознание современного человека. Человек ведь не всегда бывает в полном сознании. Человек не всегда контролирует сам себя. Раньше это не входило в культуру, а сейчас входит. Вместо коммуникации — иллюзия коммуникации. Это в «Портрете» Пинтера есть: разговаривают мужчина и женщина, но это не диалог, а поделенный на двоих монолог. Современная драма фиксирует это на посекундном времени. Нельзя тут не вспомнить Гришковца, который, по сути, ввел в драматургию многоточие как прием.
Причем, фирменный прием. И косноязычие тоже, кстати.
Да, совершенно верно! Право быть собой на сцене и идти от себя. Это глобальная идея. Гришковец, правда, сам триста раз изменился. Но вклад внес очень существенный. Мне кажется, что с появлением Гришковца актер стал обязанным говорить от своего лица. Гришковец привнес, сделал обязательным личностное отношение — я всегда говорю от себя. В современном театре вообще невозможен пафос, обращение от «мы». И это проблема. Всегда должен быть зазор. Школа Петра Фоменко на этом и построена, на постоянном контролировании артистом своей роли, на ежесекундном осмыслении, ироническом, саркастическом осознании собственного бытия на сцене. И это открытие театра — едва ли не самое главное за последнее время.