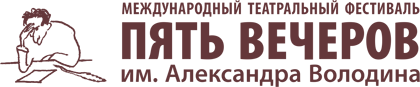Ирина Алпатова
Чужая душа в потемках
В театре «Ленком» сыграли «Пять вечеров» Александра Володина

Обшарпанная, ободранная стена-задник с проступающей кирпичной кладкой. Дверь-проем в этой стене. За дверью — снег, зэки, вертухаи. Это — пролог. Так начинается спектакль «Пять вечеров» по одноименной пьесе Александра Володина, поставленный режиссером Андреем Прикотенко в переживающем не лучшие времена театре «Ленком».
«А на левой груди профиль Сталина» — это обнаружится уже в эпилоге, когда Тамара, раздев Ильина до пояса, примется обмывать его, как покойника. Хотя у Володина все вроде бы не так фатально. Призрак зоны возникнет здесь еще раз, когда, ближе к финалу, Ильин ждет ответа от Тамары: уйти ему или остаться. Впрочем, простите, не просто зоны, а именно ГУЛАГа. В программке театр благодарит и «Сахаровский центр», и общество «Мемориал», и музей истории ГУЛАГа. В фойе — фотографии и личные вещи тех, кто реально через все это прошел. Фотографии проецируются и на экран-задник в финале спектакля.
Вряд ли обо всем этом можно говорить, как о режиссерском открытии. Слово «ГУЛАГ» есть уже в ремарке самой володинской пьесы. Другое дело, что частенько «это» не играли, сосредотачиваясь на других вещах, коих у Володина, не нуждающегося ни в каких иллюстративных подпорках, немало. Но, видимо, режиссерам кажется, что открыли и перекопали не всё. Только если бы в спектакле Прикотенко все эти визуальные лагерные мотивы были хоть чем-то внутренне подкреплены, куда-то развиты, вписаны в психологические подробности, об этом можно было бы говорить всерьез. Но нет, здесь это всего лишь «картинка», минутку повисевшая на видном месте и тут же убранная куда-то на шкаф, чтобы не мешалась.
Володина у нас любят ставить, купаясь в быте. Хорошо, если при этом режиссер верно попадает в совершенно особую ленинградскую атмосферу 50-60-х годов, где этот быт тесно увязан с приметами человеческого менталитета. Ленинградцы — особая «нация», при всей «вечности» володинских тем и сюжетов. Впрочем, о том, что можно и по-другому, нам не столь давно поведал Виктор Рыжаков, сделав в «Мастерской Петра Фоменко» спектакль, от быта очищенный, но без малейшей потери смыслов. Его спектакль парадоксальным образом связал лирику и гротеск, щемящую искренность и комедиантство, стал одним из самых сильных и современных высказываний на тему драматургии Володина.
Андрей Прикотенко в сотрудничестве с художниками Ольгой Шаишмелашвили и Петром Окуневым, как-то попытался совместить натуралистические приметы с некими сочиненными заново обобщающими условностями. Тут есть платья из панбархата и котиковые шубки, старый репродуктор и картошка в мундире, папиросы «Беломор» и мимозы в трехлитровых банках. Но спать Тамаре — Олесе Железняк приходится на двухъярусных нарах, облагороженных «под кровать». И тут уж приходится фантазировать: не иначе, как режиссер хотел этим сказать, что вся страна — сплошная зона. Хотя, конечно, ощущая стремление режиссера к всамделишной правде жизни, подчас не удержаться от ста тысяч детских «почему?».

Почему Ильин — Андрей Соколов, ежели он только что вернулся из мест не столь отдаленных, выглядит столь откормленным? А если не только что (из репродуктора прозвучало что-то из начала
Ясное дело, молодому режиссеру хотелось все как-то «расширить и углубить». Но второго не получилось, только первое. Меж тем Володин — из тех авторов, последних великих российских драматургов ХХ столетия, тексты которых самодостаточны, но при этом предлагают невероятные возможности дл душевных актерских раскопок. Главную пару этого спектакля, Андрея Соколова и Олесю Железняк, все-таки стоит отметить хотя бы в попытках этих раскопок. Тем более, что ключ дает опять-таки сам Володин, говоря (устами юного Славика), что одного жизнь сломала, а другую согнула. Соколов — Ильин очень хорош в этой внезапно появившейся растерянности взрослого мужика, в абсолютном непонимании, как себя вести, куда деть руки и как распорядиться голосом, предательски выдающем ложь. Железняк — Тамара, поневоле утратившая женскую мягкость «работница-общественница», разучилась даже рыдать по-бабьи: смешно, по-птичьи вскрикивает, автоматически не позволяя себе расслабиться и выплеснуть наболевшее.
Но вот все прочие (за исключением разве что эпизодического Тимофеева — Сирина), кажется, изначально поставлены в условия концертно-антрепризного действа. Разудалая продавщица Зоя — Наталья Щукина в белой наколке и вязаных рейтузах, явно под хмельком, выдает целый вставной номер комического свойства. Славик — Тикунов и Катя — Елена Есенина суетятся, мельтешат и говорят громко, «с выражением». Причем каждый по-своему и о своем, а в общую мелодию все это ну никак не складывается. Вот только по Володину — однозначно надо, иначе все теряет смысл.
И, кстати, под занавес снова о смыслах. Намеков на них здесь так много, они словно бы распылены по сцене из какого-то режиссерского баллончика. Но, увы, быстро улетучиваются, не успев раскрыться. Публика много смеется. Иногда по делу, иногда просто потому, что в современном театре принято расслабляться и получать удовольствие. Только вот, простите, именно к современному театру это не имеет ровно никакого отношения.