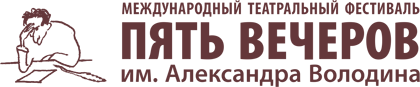Анна Банасюкевич
«Пять вечеров» в «Ленкоме»: мелодрама в лагерном антураже

Режиссер из Петербурга Андрей Прикотенко поставил в «Ленкоме» самую известную пьесу Александра Володина «Пять вечеров» — получилась странная смесь сериальной мелодрамы и исторической драмы.
Если открыть программку, то можно обнаружить, что при создании спектакля режиссеру понадобилась помощь Сахаровского центра и общества «Мемориал» — плодами плоды этого сотрудничества стала посвященная сталинским лагерям выставка-инсталляция, которую открыли в фойе театра. Здесь рассказывается о судьбах некоторых политзаключенных, а с помощью экспонатов иллюстрируется лагерный быт. Сразу думается о том, что режиссер из Петербурга перекидывает мостик к знаменитому спектаклю Георгия Товстоногова в БДТ, где внимательные зрители отчетливо считывали намек на лагерное прошлое главного героя, буквально канувшего в лету на целых десять лет.
Времена другие, все-таки полвека прошло, и, вроде бы, теперь о таких вещах говорить можно открыто, без намеков и двусмысленностей. Спектакль Прикотенко начинается с рьяной метели, с толпы зэков в телогрейках и ушанках, топчущихся в проеме двери. Мимолетная прелюдия, и вот уже в дверях Ильин, один из этой бесчисленной одноликой толпы — с деревянным чемоданом, в мешковатом костюме. Все очень наглядно, другое дело, что Ильин в исполнении Андрея Соколова — полноватый, очень «домашний» и какой-то очевидно благополучный — совсем не вяжется с этим, совсем недавним, прошлым своего героя.
О его лагерной биографии напоминают настойчиво на протяжении всего спектакля — в какой-то момент на высокую кирпичную стену, основную часть декорации, спроецируют копию личного дела: фотография профиль, анфас, пометка — 58 статья. В кульминационный момент истории, когда пьяный Ильин возвращается к Тамаре со своей исповедью, прошлое, подступавшее к дверям, наконец, врывается на сцену, в сам дом. Перекличка, обыск, конвойный орет: «На выход!». Ильин затыкает пальцами уши. В самом финале, когда текст Володина уже кончится, Тамара вынесет таз с водой и начнет медленно раздевать обмякшего Ильина. И под рубашкой вдруг обнаружится татуировка — профиль Сталина, ближе к сердцу. Как это вяжется с 58 статьей — понять сложно. Как с этой же статьей вяжутся вдруг проклюнувшиеся уголовные замашки Ильина, когда он, сложив пальцы козой, идет, набычившись, на своего навязчивого приятеля Тимофеева, — тоже вопрос.
Впрочем, это вопрос второстепенный. Главный — в другом: лагерная тема пришита к этому спектаклю грубой, отовсюду торчащей, ниткой. Для времен Товстоногова эта тема была плотью современной ему жизни, вскрывающейся драмой текущего момента. Сейчас зрители в зале воспринимают эти лагерные коннотации как историческую виньетку, тем более, что эти слишком наглядные вкрапления так и не становятся содержанием самой, вполне себе вневременной истории.

На сцене — высокая кирпичная стена, с остатками ободранных обоев, полинялых газет. Стена — почти на авансцене, глубины пространство спектакля лишено. Есть лишь черный проем двери, за которым, видимо, страшное прошлое, подступающее к этому подобию нехитрого уюта. На стене — перекидной календарь, полочка с книгами, доска со Славиными чертежами, где-то очень высоко — часы. Из предметов быта есть еще двухъярусная кровать, нижняя полка занавешена, там ютится Тамара. Под кроватью — чемоданы, книги. Когда юная Катя будет помогать Славе и Ильину прибирать, она случайно вытряхнет содержимое одного из этих чемоданов — там окажется груда писем, самое дорогое для заплакавшей Тамары. В антракте сделают перестановку, и во втором акте из мебели останется только раскладушка, на которой спит Ильин и круглый столик на высокой ножке, скромно укрытой до поры до времени белой салфеткой — декорация для сцены в вокзальном буфете, где Катя будет уговаривать пьяного Ильина вернуться к Тамаре.
В том, как одеты герои, в том, как играют актеры, есть заметный ретро-стиль, есть определенная, шаржированная, стилизация: Зоя — типичная продавщица, такая, какой мы ее представляем себе из миниатюр Райкина. Розовый халат с блестками, бумажная корона на голове, белый халат, пуховый платок, деревянный ящик вместо стула, чай в чашке с подстаканником. Вульгарная, трескуче-манерная — в сцене объяснения с Тамарой обнимает ее за шею. А когда тщетно пытается удержать Ильина, разрывает блузку на груди и буквально придавливает его к стене своим внушительным бюстом.
Катя (Елена Есенина) в модной шляпке постоянно меняет яркие платья — то в оранжевом, то в зеленом, то в синем. Слава (Станислав Тикунов) — накаченный, рослый — совсем непохож на восторженного балагура. Вся его фактура противится той развязно-шутовской манере, в которой он вынужден существовать. Даже неловко, когда этот детина вдруг разражается слезами — от обиды за тетю, и совсем уж непонятно, чем так напугал его этот Ильин. Когда Соколов, свесившись с двухъярусной кровати, говорит свое: «Если ты при мне обидишь эту женщину, то я семь шкур с тебя спущу и голым в Африку пущу», то кажется, что для этого Славика самое естественное — стащить этого скрючившегося, скромно сложившего стопочкой вещи, потрепанного человека вниз и выставить в коридор. Тот же вопрос возникает в сцене их потасовки — непонятно, чему может научить этот Ильин, беспорядочно машущий руками, с пальцами, не сжимающимися в кулак.
Андрей Соколов играет Ильина каким-то застенчивым, зашуганным, невротичным человеком средних лет — в нем нет мужественности и нет тайны прошлого — благо про эту тайну нам уже все рассказали, хотя эта, утверждаемая режиссером биография, к этому человеку, говорящему ломкой скороговоркой, с усилием, с какой-то странной мягкостью, мало подходит.

Наиболее интересно здесь следить за самой Тамарой в исполнении Олеси Железняк — ее героиня, пожалуй, единственная, которая претерпевает за эти пять вечеров какую-то метаморфозу. Настороженная, высохшая, постоянно курящая, с папильотками на голове, она складывает руки на груди, решаясь только на один, маленький, шаг навстречу Ильину. Потом она будет в синем бархатном платье прижимать к стенке меланхоличного Тимофеева (Александр Сирин), буквально требуя от него помощи. Будет исповедоваться сидя на стуле — сначала ровно, обреченно, потом слова ее станут делиться на слоги, а потом останутся лишь бессвязные, выталкиваемые прерывистым дыханием звуки. Порой ее Тамара почти карикатурна и даже смахивает на продавщицу Зою: по интонациям, по жестам, но со временем в ней просыпается какая-то особенная грациозность. В том, как стоит она в белом платье, прижавшись к стене, есть вдруг проснувшаяся женственная кротость, слабость и сила одновременно.
Спектакль, во многом выхолостивший обычную человеческую историю претензиями на историческое обобщение и драму памяти, заканчивается демонстрацией слайдов — на кирпичную ободранную стенку проецируют фотографии бывших политзаключенных — красивые лица старых людей. Каждая из этих фотографий — уже сложная, страшная, интересная история, только вот непонятно, причем здесь «Пять вечеров».