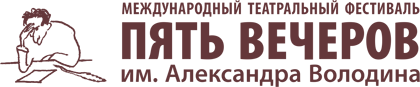Похождения зубного врача
О фильме
1965
Сценарий
Райздрав помещался в белом доме, который возбуждал мысли о покое и выздоровлении или о несерьезной болезни, когда ты лежишь на белой постели и посматриваешь в окно.
Чесноков оставил чемодан у секретарши и вошел в кабинет заведующего.
Заведующий производил впечатление симпатичного, простого и способного человека. Он посмотрел доброжелательно, еще не зная, зачем тот пришел.
— Здравствуйте, моя фамилия Чесноков.
Заведующий обрадовался.
— Наконец-то! Здравствуйте. Что с вами стряслось?
— Я задержался, — уклончиво ответил Чесноков.
На следующее утро Чесноков проснулся рано. Он нажал кнопку будильника, чтобы не звонил, поднялся и присел к окну.
На улице было солнечно и пусто.
Он достал плоскогубцы из чемодана, походил по комнате, нашел крепко вбитый гвоздь и быстро вытащил его. Положил этот гвоздь на стол, еще походил вдоль стен и вытащил из дверного косяка шуруп. И тоже положил на стол. Затем он вынул гвоздь из стула, но, так как стул после этого стал шататься, он теми же плоскогубцами вбил гвоздь обратно,
Он сунул плоскогубцы в карман, снова присел к окну и начал писать письмо.
«Здравствуй, Женя! Итак, я приехал. Через полчаса мне уже идти на работу, а я не могу…».
Он не стал дописывать письмо и начал одеваться, не спеша, как человек, знающий, что ничего хорошего его впереди не ждет.
Одевшись, он вышел на улицу и зашатал по ней, глядя то направо, то налево.
В нашем городе люди ходят по улицам медленней, чем в Москве, медленней, чем в Ростове, примерно так, как в Костроме или Кинешме. Третий век, не спеша, прошел по его улицам, и теперь здесь все о чем-нибудь напоминает. Здесь есть дома каменной кладки восемнадцатого столетия, есть улочки, особняки и парки, напоминающие о купечестве разных гильдий, о студенческих вечеринках, о декадентских стихах, здесь непременно
На городскую поликлинику Чесноков набрел неожиданно, оробел и повернул назад. Потом остановился, поглядел на нее словно бы от нечего делать, как посторонний.
Поликлиника находится у нас в старом особняке с двумя полногрудыми девам и, которые, кажется, специально высунулись из стены, чтобы внушать посетителям уважение к здоровью.
Чесноков зашел внутрь, на всякий случай держась так, будто попал сюда случайно. В коридоре он миновал немногочисленных больных, которые сидели в ожидании у разных кабинетов, и остановился перед кабинетом зубного врача.
Дверь была отворена. У зубоврачебного кресла стоял приземистый пожилой человек, похожий на такелажника с гуманитарным образованием. Он весь был словно сплюснут сверху, чтобы таскать тяжести, а глаза смотрели ясно и умно. Голос у него был приспособлен, чтобы орать с палубы на пристань, но он говорил тихо.
— Потерпите, — сказал врач и включил бормашину. Чесноков, страдая за больного, поморщился. Отпуская своего пациента, врач заметил Чеснокова, обрадовался и вышел в коридор.
— Здравствуйте, — оказал он радушно. — Заходите.
— Я? — испугался Чесноков.
Врач рассмеялся, протянул руку и представился:
— Рубахин.
Чесноков пожал протянутую руку и сказал:
— Вы, наверно, ошибаетесь…
— Нет, я не ошибаюсь, — засмеялся Рубахин. — Привыкайте к тому, что в нашем городе все всем известно.
Он продолжал посмеиваться удивлению Чеснокова, тот тоже вежливо посмеялся в ответ и вошел в кабинет. Здесь стояло еще одно кресло, около него, так же как и возле первого,— бормашина, стеклянный шкаф и столик,
— Вот это ваше рабочее место, вот это ваш инструмент, халат, а вот это ваша тетрадь для записей. Акклиматизируйтесь и приступайте.
— Приступим, — вяло согласился Чесноков и надел халат.
Рубахин открыл дверь и пригласил больных.
— Прошу вас. Два человека.
В кабинет вошли рослый мужчина и решительный мальчик, которого мама в двери погладила по голове.
Мальчика Рубахин поманил к своему креслу. Мальчик сел, но сразу же крепко стиснул зубы, с тем чтобы ни в коем случае их не разжимать.
Мужчина, стараясь не нарушать покой и порядок кабинета, уселся в кресло Чеснокова. Лицо его приняло достойное выражение, словно он собирался фотографироваться.
— Так, — сказал Чесноков и опустил кресло. Затем он повернул лампу, снова приподнял кресло и еще поправил свет.
Чтобы не смущать его, Рубахин отвернулся и занялся мальчиком.
Новый врач вел себя странно. Он словно бы только и думал, как оттянуть время. Помыл и вытер руки, подошел к шкафу, приоткрыл и закрыл его и вернулся к пациенту.
— Так, прошу вас… Ясно, надо удалять. Разрешите, я проверю остальные… Очень хорошие зубы. А этот — да, этот придется удалить.
— Только знаете, доктор, — сказал пациент, — мне не надо замораживать, я не люблю.
— Как не надо? — смешался Чесноков и пошел снова мыть руки, — Всегда лучше обезболить. Но пациент стоял на своем.
— Лучше уж я сейчас потерплю, зато потом сразу пройдет.
— Раз больной просит сам, — вмешался Рубахин, — можно и не обезболивать, тем лучше…
Он подошел к Чеснокову, слегка подтолкнул его к столику. Чесноков взял щипцы.
— Ну и правильно, и чего же тут думать! — ободрил Рубахин и повернул его к креслу.
— Виноват, минутку, — сказал Чесноков и хотел снова отойти, но Рубахин придержал его сзади и не пустил.
— Чего уж там, — сказал он, — давайте мы его пока удалим, а потом уж…
Вот тогда это и произошло. Чесноков наклонился к больному и выпрямился в странном изнеможении, держа в щипцах удаленный зуб.
Больной, не закрывая рта, недоверчиво косился на него.
— Все, — сказал Чесноков.
— Уже? — спросил больной.
— Уже.
— Ха!..
— Что?
— А я и не почувствовал.
— Ну уж не говорите, — не поверил Чесноков.
— Нет, я, знаете, вообще ничего не почувствовал, — все больше удивлялся больной.— Очень удачно, очень.
— Вот и все в порядке, — сказал Рубахин.
Больной поднялся и вышел из кабинета, посмеиваясь и крутя головой. Чесноков нагнал его и спросил еще раз:
— Нет, вы действительно ничего не почувствовали? Я интересуюсь, потому что это очень странно, этого не может быть.
— Медицина! — сказал больной и, обращаясь к очереди, посоветовал: — Главное, это не надо обезболивать. Раз! И готово.
Чесноков вместе с ним вышел на улицу. Здесь он сердечно пожал больному руку и стоял, глядя ему вслед, и халат его развевался на ветру.
Из двери выбежал Рубахин:
— Сергей Петрович, вас ждут!
Когда они вернулись в кабинет, в кресле Чеснокова уже сидела женщина.
— Я сейчас, мальчик, подожди еще немножко, — сказал Рубахин своему пациенту и на всякий случай опять занял место за спиной Чеснокова.
— Тогда уж мне тоже не надо делать укола, — попросила женщина. — А то я укола боюсь.
Чесноков опять упал духом и взглянул на Рубахина.
— Может быть, все-таки лучше обезболим? — сказал Рубахин.
— А впрочем, — перебил его Чесноков и взял со столика щипцы.
Он сосредоточился и на минуту стал равнодушен ко всему на свете, кроме сидевшей перед ним женщины. Лицо его было спокойно, и только глаза возбуждены и даже, казалось, веселы. Он наклонил голову, сделал незаметное движение и сказал:
— Все.
— А зуб? — спросила женщина.
— Вот он.
— Что же я мучилась! — воскликнула она.
— Следующий, — волнуясь, позвал Чесноков.
— Видал? — сказал Рубахин своему мальчику, который сидел,
Мальчик покачал головой.
— Что же, я так и буду стоять над тобой целый день?
Мальчик молчал.
Следующим пациентом Чеснокова был я. Мою первую встречу с ним я запомнил навсегда. Он стоял над креслом, в котором я сидел с разинутым ртом.
— Все, можете идти, — сказал он мне.
Я не сразу понял его.
— Как, уже?
— Следующий, — сказал Чесноков.
Он уже не смотрел на меня. Он не совсем понимал, что происходит, но сердце у него колотилось медленно и весело.
Мне надо было уйти, чтобы не мешать ему, а я не мог. Я остановился в дверях и смотрел.
В кресло усаживался следующий, а Чесноков подошел тем временем к мальчику, который, стиснув зубы, сидел перед Рубахиным, и сказал:
— Ну-ка!
Мальчик поспешно открыл рот.
Чесноков наклонился, одновременно прихватив со столика щипцы, и через мгновение сказал:
— Иди к маме.
Рубахин смотрел на него молча. Он немного испугался. Но затем преодолел свою робость, вздохнул и обнял Чеснокова.
Вечером он вел Чеснокова по городу, знакомя с ним всех, кого считал того достойным. Едва ли не первым Рубахин познакомил с ним меня.
— Это наш учитель. А это наш новый зубной врач, новое пополнение. А какой это врач — скажу лишь одно: я за свою практику такого еще не видел.
— Бросьте вы! — отбивался Чесноков.
— А что он может мне сказать нового, — и я показал Рубахину то место, где прежде был зуб, — когда я сам свидетель! Жаль, что я не сохранил этот зуб на память.
— Что, совсем не было больно, в буквальном смысле слова?— недоверчиво спросил Чесноков.
— Абсолютно.
Чесноков засмеялся. Он был в том настроении, какое наступает после долгого уныния. Все страхи и беды вдруг остались позади, судьба повернулась — и как! В эту минуту ему нравилось все, ему казалось, что и он симпатичен всем. После долгого молчания, когда ни с кем нельзя было поделиться, ему хотелось рассказывать о том, что его мучило прежде. Теперь уже нечего было стыдиться, напротив: чем хуже было прежде, тем удивительнее казалось то, что произошло с ним сейчас…
— Если бы вы знали, в каком жутком настроении я сюда ехал! Теперь я могу рассказать. Я вообще впечатлительный человек, а в училище на выпускном зачете со мной произошел убийственный случай: я сломал человеку зуб, и преподаватель у меня на глазах вынужден был выдалбливать корень!
— А вот и Ласточкина,— обрадовался Рубахин.— Познакомьтесь.
Ласточкина — тоже наш зубной врач — полная, крепенькая женщина из резиновых округлостей, в меру надутых изнутри. Вид у нее оживленный и задорный, и мягко вздернутым нос, и ямочки на щеках, и очень блестящие черные глаза. Она любит похохотать, все время клубится папиросным дымом — активная, целеустремленная, оживленная. Ее хватает и на кокетство с мужчинами, и на работу в поликлинике, и на исполнение многих общественных обязанностей, и на неофициальную практику дома — она принимает больных по рекомендациям.
— Вот теперь наш коллектив в полном составе, — сказал Рубахин.
Но, видимо, начатая история волновала Чеснокова, он сказал, обращаясь к Ласточкиной:
— Я тут рассказываю, как я сломал корень. Это была молоденькая девушка, я ее знал. Она стеснялась плакать. По щекам катились слезы, но она молчала… Скажете — случай, надо
бы забыть, а впредь работать осторожней. А я не мог этого забыть! Я стал бояться подходить к зубоврачебному креслу, я стал бояться, что причиню
Этот человек был
— Маша,
Она подошла.
— Вот с кем вы должны познакомиться, — сказал Рубахин Чеснокову. — Это Маша, она сочиняет песни, сама придумывает слова, сама придумывает музыку, сама себе аккомпанирует и поет. А это наш новый зубной врач, который…
— Я знаю, мне пала говорил. Я соберусь с духом, тоже как-нибудь к вам приду.
— Буду счастлив,— сказал Чесноков.— Я тут вспоминал, как я получал диплом… Получаю диплом и направление, понимаю, что не могу работать! Сегодня утром я не хотел идти на работу!.. Нет, это действительно чудо, я просто не могу это расценить иначе.
Вечером у нас все ходят по береговой аллее. Под руку, не спеша, одни в одну сторону, другие — в другую. Здесь городские новости утверждаются, опровергаются и обретают свой истинный вес.
В этот вечер движение то и дело нарушалось. Дневные пациенты излагали свои впечатления о новом враче. Вокруг каждого концентрировались слушатели, переходя от одного очевидца к другому.
Рассказывал первый пациент Чеснокова, разъясняла женщина, которая боится уколов, а мальчик — его специально привел сюда папа —показывал всем желающим дырку во рту.
Дочь моя стояла в студенческой компании, прислонясь к бревенчатым перилам, и напевала под гитару свою новую песенку про зубного врача.
(Какие песни поет моя дочь?
Как я могу это объяснить…
Если бы их пела незнакомая девушка
Или незнакомая женщина в незнакомой компании,
Я бы слушал и слушал,
Я бы вспоминал свою жизнь,
Еще одна строчка — еще одно воспоминание,
И все они говорят: живи! живи!
И постарайся быть счастливым,
Потому что другой жизни Не будет!..)
Скоро Чеснокова знал весь город. Когда он шел по главной улице, с ним здоровался чуть ли не каждый встречный. Девушки, пройдя мимо, оглядывались на него. Пожилые горожане уважительно приподнимали кепки. И он торопился ответить на все приветствия, опасаясь кого-нибудь обидеть невниманием.
Эта неожиданная слава волновала его и поражала каждый день заново. Он стал веселым, открытым, счастливым человеком. Если он проходил мимо Дома культуры, его останавливали и уговаривали зайти. Его усаживали поблизости от сцены, и соседи по ряду привставали, улыбались и здоровались с ним. Он присутствовал на третьих турах городской и сельской самодеятельности. Ему уже случалось сидеть в президиумах во время торжественных собраний.
Он полюбил ходить в гости, на вечеринки. Кто-нибудь непременно провозглашал тост за него, а он смущался и возражал, но тоже чокался и выпивал свою рюмку. Как многие счастливые люди, он стал невнимательным. Он и не заметил, как Рубахин решил покинуть этот город.
Рубахин шел, засунув руки в карманы пиджака и глядя перед собой на тротуар, чтобы ни с кем не здороваться и не разговаривать.
Маша все же остановила его.
— Яков Васильевич, это правда, что вы от нас уезжаете?
Она спросила это весело, потому что переезды и даже вести о
Рубахину не хотелось объясняться, и он ответил:
— Уезжаю.
— Что же это так! Жили-жили — и вдруг…
— Вот так,— развел руками Рубахин. — Складываются обстоятельства.
— Когда же вы едете, мы хоть вас проводим!
— Еще не знаю, билета нет. Но я вам сообщу…
Приподняв кепку, Рубахин снова сунул руки в карманы пиджака и зашагал дальше.
Он поднялся на крыльцо, постучал в дверь и в ожидании стоял, глядя на свои ботинки.
— Кто?— опросил голос Чеснокова.
— Я, —отозвался Рубахин.
Чесноков открыл, обрадовался и даже обнял его.
Рубахин быстро закивал головой, похлопал Чеснокова по спине и прошел в комнату.
— Посоветуйте мне, что делать, — говорил Чесноков, прибираясь в комнате. — Я обалдел от знакомых, полузнакомых и малознакомых людей! То и дело я их путаю; сегодня спрашиваю одного, как дела с квартирой, а это, оказывается, не тот, у которого квартира, а тот, у которого близнецы… Чесноков засмеялся, но Рубахин укорил его: — Вас любят, это естественно, этим надо дорожить.
— Нет, я дорожу! Но я просто не привык… Когда говорят в глаза комплименты, я не знаю, что делать. Молчать и ухмыляться?
— Не мешало бы вам жениться, — сказал Рубахин.
Он испытывал неловкость, касаясь деликатного вопроса, но все же оказал, потому что это было нужно.
— И надо подать заявление на квартиру. Раз вы не подаете, значит, вам не нужно. Напишите сейчас. Я посижу, а вы напишите. Вот вам ручка, вот у вас бумага. Сверху — кому: председателю горисполкома.
— Это правда, что вы уезжаете? — спросил вдруг Чесноков.
— Разве я вам не говорил? — удивился Рубахин. — Пишите, пишите.
— Пишу. Зачем вы уезжаете? Неужели в Кинешме настолько лучше условия, чем у нас?
— Лучше,— сказал Рубахин.— Ну что там у вас? Предоставить мне…
Утром обнаружилось, что Рубахин не явился на работу. Крутя в пальцах и покусывая папироску, в кабинет вошла Ласточкина.
— Ну вот, Рубахин уехал, — сказала она, не глядя на Чеснокова.— Уехал ночью, никому ни слова не сказал. Сорок лет жил в городе! Довели старика…
— Кто довел? Что случилось? — Чесноков растерялся.
— А вам и невдомек? Прелестно.
— Я не понимаю, даю вам честное слово. Я просто думал, что ему действительно так удобней. Почему я должен был ему не верить!
— Значит, все в порядке?— издевательски улыбнулась Ласточкина.— Да вы мудрец.
— В чем дело? — бледнея, официально спросил Чесноков.
— Действительно,
Она выглянула в коридор — там вдоль стены уже сидели больные, в основном, как бывает по утрам, женщины.
— Чья очередь? — опросила она.
— А я к доктору Чеснокову, — быстро сказала молодая женщина.
— Кто следующий?
Мужчина, потрепанный бессонной ночью, смущаясь, сказал:
— У меня, собственно, тоже договоренность.
Взглянув на женщину, которая сидела, держась за щеку и отвернувшись, словно не слышит. Ласточкина вернулась в кабинет, уселась в свое зубоврачебное кресло и достала книгу.
Чесноков стоял у шкафа, к которому подошел, видимо, чтобы достать инструмент. Но он забыл об этом и просто стоял.
— Там очередь, надо
— Да-да,— заторопился Чесноков. — А у меня, как назло,
Он отворил дверь, и молодая пациентка вошла в кабинет. Она села в кресло и зорко глядела на доктора, затем осмотрела и весь кабинет, чтобы потом можно было рассказать. Чесноков опустил спинку кресла. Девушка засмеялась.
— Откройте, пожалуйста.
От волнения она не сразу поняла его.
— Что?
И открыла рот как можно шире,
Чесноков натравил свет, взял металлическое зеркальце.
— Что же так, — расстроился он. — Надо было лечить. А теперь придется удалять.
— А я вообще не люблю лечить. Вырвала — и забыла.
Девушка снова открыла рот, пристально следя за доктором.
И все же не уследила.
— Можете идти, — сказал он. — Часика два не надо есть и пить.
— Уже?.. А где?..
— Вот он.
— Можно, я его возьму?..
Она завернула свой зуб в приготовленный платок и за неимением аудитории сказала Ласточкиной:
— Ничего, ну ничего не почувствовала!
— Попросите, пожалуйста, следующего, — сказал ей Чесноков.
Она выскочила в дверь.
В кабинет вошел следующий пациент и, с любопытством глядя на Чеснокова, стал устраиваться в кресле.
…Несмотря на упомянутые переживания, Чесноков
Ласточкина была
— Должен же
Если же ее спрашивали: «Ну как там Чесноков, это правда, что о нем говорят?», — она смешно поднимала бровь в знак некоторой иронии по этому поводу.
— Я, наверно, необъективна. Я вообще скоро уберусь из этого города, как Рубахин.
— Что вы говорите! — восклицал посетитель.
И она, озабоченно стряхивая пепел, поясняла уже серьезно:
— Что делать, видно, нам с ним тоже не сработаться…
Однажды, забавы ради катаясь на парковой карусели, Чесноков заметил, что поодаль на скамье сидит Ласточкина. Она сидела странно, словно вот-вот собиралась уйти. Совершая новый круг, Чесноков опять задержал на ней взгляд. Она была, видимо, в таком настроении, когда все равно, видит тебя кто-нибудь или нет.
Когда карусель остановилась, Чесноков слез с верблюда и подошел к ней. Она посмотрела на него рассеянно.
— Людмила Ивановна, я слышал, что вы собираетесь уезжать из нашего города. Это правда? — спросил он и присел рядом.
Она продолжала смотреть, словно не понимая, что ему нужно, и ожидая, когда он уйдет. Но он не уходил и ждал ответа.
— Ну уезжаю, какое это имеет значение, — сказала она и отвернулась.
— Людмила Ивановна, я прошу вас, не уезжайте. Не надо уезжать.
Она не отвечала. Разговор был ненужным и бессмысленным.
— Я знаю, вы меня не любите, — сказал Чесноков. — Вам кажется, что я самодовольный человек. Это неправда! Вы думаете, для меня это так легко прошло — история с Рубахиным. Просто я не дал себе воли это переживать. Я бы пропал. Я самоед, я бы съел себя живьем!
— Вас очень беспокоит, что я вас не люблю? — удивилась Ласточкина. — Вас любит столько людей, что один человек — это не страшно.
— Но за что! За что! Скажите мне, я хочу бороться со своими недостатками.
— Я не люблю людей, которые вызывают во мне плохие чувства, — сказала Ласточкина, каменея ямочками на щеках и сумрачно поблескивая глазами.
Чесноков решил пойти к заведующему райздравом и попросить, чтобы тот то действовал на Ласточкину и убедил ее остаться.
— Я прошу вас, — сказал он, — уговорите ее остаться. Я знаю, она уезжает
осталась. Заведующий посмотрел на него, усмехнулся и сказал:
— А очень просто. Вы должны плохо работать, чтобы к вам больные не хотели идти.
— Я понимаю, в чем тут беда. Больные — люди возбужденные и общительные. Они читаются слухами и распространяют слухи. Начинается нездоровая шумиха, преувеличиваются репутации. И это сразу осложняет отношения.
Заведующий старался смотреть на него серьезно и официально, но не мог сладить со своей симпатией к Чеснокову и невольно улыбался его чистосердечной наивности.
— А что вы хотели? Чтобы больные не делились своими впечатлениями? Так не бывает. Вам не нравится, что они говорят о вас хорошо? Вы хотите, чтобы они говорили о вас плохо? А я считаю: врачей должны почитать и верить в них. Почему всегда почитали знахарей и шаманов, а на врачей пишут жалобы в жалобные книги? — говорил он, отыскивая номер телефона Ласточкиной. — Ласточкина, Ласточкина… Опасная баба, она ведь там у вас деятель… Надо ее нейтрализовать. Людмила Ивановна? Котиков говорит, приветствую вас. А знаете, кто меня попросил вам позвонить?.. А вот угадайте! Сергей Петрович, вот напротив меня стоит на коленях и молит, молит, чтобы я вас уговорил остаться!.. Что…— Котиков подул в микрофон.— Повесила трубку. Черт с ней, учитесь не зависеть от недругов.
Зазвонил телефон.
— Да, Котиков… — Он сразу подобрался, как это происходит с нами, когда мы говорим с начальством. — Просили, просили. А у нас Ласточкина выбывает… Почему? А не поделили
Он долго молчал, глядя на Чеснокова и дивясь наивности того, что говорилось по телефону.
— Почему Рубахин? Ну, у Рубахина были свои обстоятельства. Безусловно
Он опять долго молчал, становясь все серьезней и уже не глядя на Чеснокова.
— А мы с ним поговорим, ему тоже есть о чем подумать, а то что же, так он у нас всех распугает… Что?.. — Он опять замолчал, и на этот раз был
Как и все, Маша входила в кабинет, волнуясь в ожидании чудес, о которых наслышалась, но не очень в них веря. У нее была сильно вздута и перекошена щека. Она мучилась всю ночь.
— Наконец-то я к вам попала,— сказала она Чеснокову,
— Посмотрим, что с вами стряслось, — весело оказал он, усаживая ее в кресло.
Тут вошли четыре человека е белых халатах. Их сопровождал заведующий райздравом Котиков.
— Работайте, — сказал он.— Это областная комиссия, хотят познакомиться.
Четыре члена комиссии один за другим поздоровались с Чесноковым, неясно произнося свои фамилии. (С Ласточкиной они, вероятно, уже виделись.)
— Продолжайте,— сказал один из них, — мы не будем вам мешать.
Котиков чувствовал себя скованно, Ласточкина, напротив, была возбуждена, и Чесноков понял, что комиссия эта не к добру. И сразу, как бывает в подобных случаях, он стал думать о том, какое он производит впечатление. Он стал деловитым и внимательным, он свел брови и еще раз озабоченно наклонился над пациенткой, но никак не мог сосредоточиться.
— Так, понятно, — на всякий случай пробормотал он.
Он повернул лампу, еще раз наклонился над Машей, еще более серьезно вгляделся. Он так долго смотрел, покачивая головой, что Маша устала и закрыла глаза.
— Ничего, ничего, еще немножко, — попросил Чесноков.— На какой зуб вы жалуетесь, на этот?
Маша кивнула головой.
— Периоститис ретромолярис. Ничего страшного нет, но лучше вам будет съездить в областную стоматологическую поликлинику.
— Сергей Петрович! Я не могу сейчас ехать, — взмолилась Маша. — Прошу вас. Если что — я потерплю.
Глядя на членов комиссии, Чесноков улыбнулся.
— Зачем же вам рисковать! В стационарных условиях вам сделают рентген и операцию проведут быстро, квалифицированно. Я просто здесь не имею права делать такую операцию.
Один из членов комиссии вежливо сказал:
— Позвольте взглянуть.
Чесноков передал ему зеркало.
Член комиссии взглянул и согласился:
— Совершенно верно, периоститис ретромолярис.
И вручил зеркало другому члену комиссии.
Тот тоже взглянул и кивнул головой:
— Периоститис ретромолярис.
Другие смотреть не стали.
— Ну, девушка, жаловаться на врача вам не приходится,— сказал первый, — диагноз поставлен верно. На денек съездите, послезавтра будете грызть орехи…
Потом он крепко пожал руку Чеснокову.
— Рад был познакомиться.
Остальные члены комиссии тоже пожали руку Чеснокову. И Котиков крепко пожал ему руку и даже подмигнул, что, мол, все в порядке, наша взяла!
В коридоре члены комиссии остановились, посмотрели на Котикова и развели руками в знак того, что полностью удовлетворены. И заведующий райздравом Котиков развел рукам и, мол, видите сами, какие у нас врачи.
Чесноков, едва закрылась за комиссией дверь, развеселился, как рапирой сделал выпад пинцетом, проткнув невидимого противника насквозь.
Только Маша расстроилась.
— Да ну вас!— сказала она и, не простившись, побежала прочь.
Этот случай серьезно повлиял не только на судьбу Чеснокова, но и на судьбу Маши. Поэтому мы пока оставим Чеснокова (пускай он подождет нас в этой позе) и вернемся ненадолго назад.
Случалось ли вам видеть праздничную демонстрацию в небольшом городе? Если бы я, как учитель, не был обязан участвовать в демонстрации вместе со своей школой, я ходил бы все равно. Особенно Первого мая. Бухают оркестры, и, так как городская колонна не слишком велика, мы слышим сразу все оркестры города. Мы идем, сбиваясь с ноги, м все время здороваемся: учителя — с родителями, врачи — с пациентами, девушки — с молодыми людьми. А когда приходится все время здороваться, невольно все время улыбаешься.
Здесь, на демонстрации, и произошло это знакомство утром, часов в одиннадцать.
Маша шла в колонне, держа под руку приятельниц, как они обычно ходят вечером по набережной.
Он стоял на тротуаре, прислонясь к столбу, и смотрел на проходящих мрачно. Видимо, он вышел на улицу просто потому, что все вышли.
Так они увидели друг друга в первый раз.
После демонстрации хорошо собраться своей компаниек в комнате с открытым окном, когда ты почти на улице и в то же время дома. Из репродукторов доносится музыка, слышно все, что говорится и поется на улице, а здесь — несколько мальчиков, которые не танцуют, и побольше девочек, которые танцуют.
Здесь
— У вас плохое настроение? — спросила Маша.
— Пройдет, — сказал Костя.
— А я думала, мужчина не бывает несчастлив, я думала — только женщина.
— Что вы! — улыбнулся Костя.
Маша поняла, что он страдает и что причина серьезна, но говорить о ней не следует.
Тут, как водится, Машу попросили спеть. Она присела на стул, настроила гитару и стала петь, поглядывая на Костю. С этой минуты как бы толстое стекло отделило от них все остальное.
Когда Маша кончила петь, Костя сказал:
— Потрясающе.
Маша положила гитару и пошла на улицу. Костя пошел за ней.
— Нет, это просто потрясающе,— еще раз сказал Костя.
Время от времени
— Я могу изобразить любое животное, — сказала Маша.— Какое вы хотите.
— Марабу, — сказал Костя,
Маша заложила руки за спину, согнулась и подозрительно, искоса повела глазом. Потом осторожно ступила ногой в сторону и приставила другую…
— Я могу даже неживой предмет. Говорите что.
— Шлагбаум, — попросил Костя, потому что
Маша подняла, соединив ладонями, руки, занервничала, поворачивая голову вслед машинам, проезжавшим слева направо и справа налево, наконец опустила руки, преграждая им путь, и только тогда успокоилась.
— Черт возьми, — сказал Костя.
И он рассказал ей про свое горе. У него была девушка, с которой он пошел в загс и заполнил анкеты. Им сказали, что две недели они могут подумать, а потом прийти расписываться. А неделю спустя девушка поняла, что любит другого, и в назначенный день не пришла.
Через некоторое время
— Я выхожу замуж.
В загсе на полу стояли горшки с зелеными растениями, а на стенах висели репродукции известных картин.
— Здравствуйте, — профессионально улыбнулась им женщина, которая сидела за столом.
— Мы желаем вступить в брак, — сказал Костя.
— Очень хорошо, — сказала женщина. — Паспорта при вас?
— При нас, — сказал Костя и достал два паспорта.
Женщина полистала паспорта и вручила им два листа бумаги.
— В соседней комнате заполните анкеты.
Маша и Костя перешли в соседнюю комнату. Там тоже были зеленые ветки и репродукции картин.
— Давай, я знаю, как заполнять, — сказал Костя и мигом заполнил обе анкеты.
Женщина приняла у них анкеты и сказала:
— У вас есть еще время подумать о своем решении, приходите семнадцатого числа.
Но в назначенный день у Маши разболелся зуб. Вот
Закрыв глаза и грея щеку воротником кофточки, она ехала в поезде.
Прикрыв глаза и грея щеку кофточкой, она записалась на прием.
В три часа позвонил Костя.
— Это Костя, здравствуйте.
— Здравствуйте, Костя. А Маши нет дома, у нее заболел зуб, она поехала…
— Что случилось?
— Ничего не случилось, у нее заболел зуб.
— Сегодня среда, я ничего не понимаю!..
— Ну и что?
— Мы сегодня должны расписываться, я ничего не пони
маю, сегодня среда!
— Ничего не случится, если вы пойдете в четверг.
— В четверг,— Костя рассмеялся.— В четверг! Понял вас.
После дождичка в четверг!..
Он опять захохотал и повесил трубку.
Когда Маша вернулась и побежала в строительную контору, где работал Костя, ей сказали, что он взял расчет и уехал, куда — неизвестно.
Но вернемся к Чеснокову. Итак, он полностью удовлетворил комиссию, сделал выпад пинцетом и стал убирать инструменты.
В кабинет вернулась Ласточкина.
— Поздравляю, произвели благоприятное впечатление.
И вышла покурить.
Но в коридоре, проходя мимо нянечки, которая мыла пол, она сказала:
— Что-то сегодня наш Сергей Петрович сробел, не стал удалять зуб. И не такой трудный зуб, странно…
— Ай-яй-яй, — расстроилась нянечка. Она очень почитала Чеснокова.
Ласточкина ушла, а она все стояла, озадаченная полученным сведением.
Знакомая больная, проходя по коридору, даже спросила ее:
— Случилось что-нибудь?
— Вот мы говорим — Чесноков, Чесноков… Значит, и ему не все дано.
Тут из кабинета вышел Чесноков. Нянечка хотела его спросить о происшедшем случае, но не решилась. В конце коридора Чесноков оглянулся — обе женщины смотрели ему вслед.
Вернувшись домой, он завалился на диван и открыл книжку. Но почитать ему не удалось, постучали в дверь.
Это пришел Мережковский, нервный человек лет двадцати семи, который постоянно перед кем-нибудь преклонялся и кого-нибудь ненавидел. Так, он преклонялся перед Чесноковым, видел в его деятельности особую идею и выдержал по этому поводу немало боев со скептиками и маловерами.
— Как дела? — опросил он, не интересуясь ответом. — Слушайте, что там опять затеяли эти подонки?
— Какие подонки?
— Вы что, не знаете? Пустили по городу слух, что вы испугались и не стали удалять зуб. Хотя это естественно. Я, наоборот, удивляюсь, как они еще долго молчали, как они еще могли столько времени терпеть, что в нашем городе появилось
На другое утро Мережковский вел под руку по улице человека в свитере, похожего на артиста Никулина. Гражданственно поглядывая на встречных, он время от времени останавливал знакомых, чтобы рассказать, куда, с какой целью он идет. Он остановил двух рослых десятиклассников и сказал им:
— Привет, направляемся к Чеснокову.
— В школу опоздаем,— заколебались десятиклассники.
— Успеете.
По пути Мережковский остановил и повел за собой старика, который прогуливался без дела.
В поликлинику они вошли в довольно людном обществе и проследовали к зубоврачебному кабинету.
В двери кабинета показался Чесноков, он надевал халат.
Мережковский выдвинул Никулина вперед.
— Вот человек, о котором я вам говорил…
— Пройдите, — сказал Чесноков.— Только закройте, пожалуйста, дверь.
— Ничего, ничего, — успокоил его Мережковский и прикрыл дверь слегка, так, чтобы было видно всем.
— Садитесь, — сказал больному Чесноков.
У него был усталый вид, и двигался он замедленно, скучно, как человек, делающий
— Ну что же, этот зуб вам не нужен, сейчас мы его…
К двери кабинета подходили медсестры и больные, спрашивали:
— Что случилось?
— Чесноков,— оборачиваясь, объяснял Мережковский.— Очень трудный случай. Тихо.
Из кабинета послышался стон.
— В чем дело?! — раздраженно спросил Чесноков.
— …ойно! — простонал Никулин, очевидно, с открытым ртом.
— Не может быть, вам не больно!
— А! — крикнул Никулин.
— Черт возьми, не можете минутку потерпеть?..
— А! — еще громче вскричал больной.
— Все же, все! — разозлился Чесноков.
В коридоре было тихо.
Через некоторое время Никулин вышел. Его пропустили, затем в растерянности все пошли за ним по коридору.
— Ну что? В общем, порядок? — бодро спросил Мережковский, надеясь выправить положение.
Никулин взглянул на него печально и не ответил.
— Чудес не бывает, — сказал старик.
Чесноков, опершись на руку лбом, сделал запись в тетрадь. Потом он снял халат и повесил на гвоздик, хотя рабочий день только начался. И запер шкаф на ключ.
Вернувшись домой, он лег на диван и закрыл глаза, чтобы ничего не видеть.
Пробили стенные часы. Еще раз постучали в дверь.
Эта пришла Вера, врач той же поликлиники, — жизнерадостная хорошенькая девушка в очках, которые ей очень к лицу.
— Абсолютно нормальная, — встряхнула она градусник.— Я просто не имею права выписывать вам бюллетень! Вставайте и марш на работу.
— Я не могу, — сказал Чесноков, — я болен.
— Нельзя быть таким впечатлительным. Больные вас обожают, начальство вас опекает, что вам еще нужно? — Говорила она весело, лучась улыбкой, которая ей очень шла. — Вы должны ходить вот так! Вам завидуют! Черт подери, этим надо гордиться. Если бы вам все время было легко, то грош вам цена.
Это хорошо, что у вас трудности. Только не гневите судьбу. Вы вот можете себе позволить — лег и не пойду на работу. И знаете, что вам за это ничего не будет. А если бы я это себе позволила? — Она помолчала, глядя на него серьезно, подозрительно.— Смотрите, а то я буду думать, что я в вас ошиблась.
Когда она ушла, Чесноков снова натянул на себя одеяло и закрыл глаза.
Но вскоре в дверь опять постучали.
Не дожидаясь ответа, вошел Мережковский с Никулиным, щека которого была обвязана сложенным платком.
— Поняли, что творят?! — воскликнул Мережковский, усаживая пострадавшего. — Воспользовались случаем и устроили
свистопляску. У него как на грех разболелась десна, решил снова сходить в поликлинику. Я ему говорю: не ходи, не ходи. Но он пошел, и вот результат: попал к Ласточкиной, она обрадовалась и вызвала специалиста из области. Якобы для консультации, а, в сущности, это на вас донос. Поняли, что творят?..
— Понял, — равнодушно сказал Чесноков.
— Но мы решили так: он будет говорить, что операция прошла благополучно, все в порядке и никаких претензий у него нет. Так?
Никулин кивнул.
— Но вы, Сергей Петрович, должны лично покончить с этим его осложнением. Так что в вашем распоряжении минимум времени. Вставайте.
— Я не могу, — сказал Чесноков. — Я болен.
Мережковский пристально вгляделся ему в глаза.
— В чем дело? — спросил Чесноков.
Мережковский подмигнул еще раз.
— Это ход?
— Какой ход? Оставьте меня в покое, я болен.
Не решаясь еще поверить новой мысли, Мережковский проговорил:
— Что же тогда?.. Значит, вы капитулировали? Решили жить послушно? Значит, они вас все-таки скрутили? Значит, получается, что победа за ними?..
— Я ни с кем не воюю,— сказал Чесноков. — Я воюю только с собой.
Мережковский смотрел на него и улыбался. Смотрел таким же взглядом, как тогда, когда предупреждал, что в случае чего перечеркнет Чеснокова навсегда.
— Да, с вами я бы не пошел в разведку, — сказал он.
— Я бы с вами тоже не пошел, — ответил Чесноков.
Мережковский вздохнул, поднялся и, забыв о своем спутнике, вышел. Тот тоже встал, глядя на Чеснокова.
Чесноков смотрел на больного, бессильно страдая. У него даже лицо сделалось похожим. Он закрыл глаза и отвернулся к стене.
Через несколько дней я узнал о том, что произошло. Я застал Чеснокова на том же диване. Мне показалось, что он обрадовался моему приходу.
— Посидите, — сказал он.
Я сел за стол, вынул из портфеля тетради и стал проверять. Чесноков приподнялся на диване и заговорил:
— Забавная ситуация! Одни требуют, чтобы я делал чудеса, на меньшее не согласны. А другие все на
— Вы преувеличиваете, — сказал я.
Он посмотрел на меня злобно, словно во всем был виноват я.
— Достаточно того, что у меня пропало хорошее настроение. Мне нужно, чтобы у меня было хорошее настроение, иначе у меня вообще ничего не. получится. Что делать, я такой, сам я себе надоел. Так переделайте меня, вставьте в меня все другое, я буду вам благодарен по гроб жизни!..
Но тут я на него закричал:
— Вы можете делать то, что не умеет никто на белом свете, вам этого мало?..
— Я могу делать либо то, чего никто не умеет, либо я не могу работать никак вообще. Я не могу иначе!
Тем временем в поликлинике председатель комиссии, которая приезжала к Чеснокову, осматривал Никулина. Ласточкина стояла рядом.
— Что такое? — удивился председатель. — У вас было два больных зуба?
Никулин показал один палец.
— Что же тогда он удалял? — спросил председатель, оборачиваясь к Ласточкиной. — Он удалил шестой верхний, а надо было седьмой верхний.
Ласточкина кивнула головой.
— А что он записал? — спросил председатель.
Ласточкина уже держала наготове карточку больного.
— Пятый нижний? — прочитал председатель. — Черт знает что!
Ласточкина улыбнулась.
Сдергивая с себя халат и багровея на ходу, председатель комиссии вышел из кабинета.
Ласточкина, сдержанно торжествуя, обратилась к больному.
— Ну, что же у вас там такое?..
Выходя от Чеснокова, на крыльце я встретил людей, судя по всему, приезжих. Полковник, крупный человек с простоватым лицом, красивая женщина, видимо, жена его, и
Отец постучал в дверь. Так как ответа не было, я сказал им:
— Дома он, дома. Входите.
Чесноков
— Привет, — сказал ему брат и сел на чемодан.
— Привет,— сказал ему Чесноков, не спеша, повернулся к двери.
— Сережа! — воскликнула мать и бросилась к нему.
Он испугался, вскочил, забормотал:
— Что такое? Что такое?
Отец раскрыл объятия, и они обнялись. Тут Чесноков увидел в двери Женю. Он обернулся к отцу и опросил:
— Вы что приехали? Как же вы приехали?
— Женя решила съездить к тебе в гости. А я решил поехать с ней. А мама решила поехать со мной. А Коле пришлось ехать с мамой.
— Вот это здорово, — озабоченно сказал Чесноков. — Здравствуй, Женя, значит, ты тоже приехала?
— Я ненадолго. Как раз дали стипендию, думаю, съездить? Я в Доме колхозника устроюсь…
— Ну как тебе здесь живется? — опросил отец.
— Плохо, — сказал Чесноков.
— Сейчас будет хорошо.
Отец взглянул на Колю. Тот поднялся с чемодана, пристроил его на стуле и открыл. Мать достала оттуда закуску, отец откупорил бутылку «Столичной».
— Стаканы есть? — опросил он.
— Стаканы? Два есть.
— Я вообще не пью, — предупредила Женя.
— А
Отец достал два граненых стакана, налил — сыну побольше, себе на донышко.
— Петр! — испугалась мать.
— Ничего, выпьет. Это нужно.
— Алкоголь — яд,— сказал Коля.
— Помолчи, — сказал отец.
— С пьянством мириться нельзя, — сказал Коля.
Мать сказала:
— Конечно, пить вредно. Ты же знаешь, папа этого не любит. Но сейчас Сереже надо выпить. Просто для поднятия тонуса.
— Каждый оправдывается как может. Пили бы и молчали.
Отец поднял стакан.
— Ну, Серега, все твои подробности и упадочнические настроения — это нам известно.
— Откуда вам известно?
— Ты меня напугал, я хотела посоветоваться, — сказала Женя.
— Все путаете, ничего этого сейчас не надо, — перебил их отец. — В кого ты такой впечатлительный? Посмотри на мать — она прошла войну, она три раза рожала, посмотри на нее, она может сниматься в кино. Вот учись у нее, тебе оптимизма не хватает, вот чего. Ну? Будь здоров.
Чесноков стал пить, и -се на него смотрели. С непривычки он хотел остановиться, но отец приговаривал:
— Пей до дна, пей до дна…
— Хватит,— попросила мать.
— Правда, не обязательно все, — сказала Женя.
Но отец приговаривал:
— Пей до дна, пей до дна…
Когда он выпил, женщины сразу протянули ему бутерброды, он взял и стал есть оба. Мать нежно сказала:
— У всех бывают трудности, надо их преодолевать. Посмотри на своего отца, вот с кого ты должен брать пример.
Чесноков сидел, подперев щеки кулаками.
— Сережа, прости меня! — взмолилась вдруг Женя. — Если
ты меня не простишь, я сейчас уеду. Хочешь, я уеду?
Чесноков не ответил.
— Он спит,— сказал Коля.
Все четверо, стараясь не разбудить, перенесли Чеснокова на диван и присели вокруг, как консилиум врачей.
— Боже мой, — сказала мать.
— Военное детство—это сказывается, — объяснил отец.
— Ему неприятно, что я приехала,— сказала Женя.— Не надо было вам показывать письма.
— Что?— в смятении опросил Чесноков и сел.
— А ты поспал! — улыбнулась мать.
— Вставайте все, вставайте все, вставайте, люди доброй воли! — спел ему отец.
— Сережа, ты на меня сердишься? — опросила Женя. — Ты абсолютно прав.
— Сыграем? — сказал Коля, ставя на стул шахматную доску.
Чесноков, дико поглядывая на присутствующих, сделал ход. Некоторое время они играли молча. Зрители уважительно смотрели на шахматную доску.
— Ладья под угрозой,— сказал отец.
— Не подсказывать, — разозлился Коля.
— Зевки никогда не считаются, — возразила Женя.
— Новое правило!..
— Это не игра, — стояла на своем Женя, — когда человек зевнул!
— Сдаюсь, — сказал Чесноков.
Он встал и, покосившись на стол, походил по комнате.
— Сережа, может быть, тебе хочется погулять? — спросила мать,— Пойди погуляй, тебе это хорошо. И Женя с тобой пройдется.
— Может быть, он хочет один, — сказала Женя. — Зачем я буду ему мешать?
— Что значит мешать! — сказал отец.— Шагом марш, вдвоем веселей.
Женя поднялась, ожидая ответа Чеснокова.
— Конечно, идем, какой разговор, — встрепенулся Чесноков.
Они вышли на пустоватую дневную улицу.
— Я знаю, мне не надо было приезжать,— сказала Женя.— Когда ты без меня, ты
— Только прошу, не надо меня сейчас ни в чем обвинять.
— Я тебя не обвиняю,
— Нет, у тебя такой вид, будто я тебя
— Ты меня ничем не оскорбил.
— Но я вижу, что ты не в духе.
— А ты?
— У меня есть на это причины.
— И у меня есть причины. Я все время завишу от твоего настроения. А твое настроение зависит от твоей работы. Только от меня ничего не зависит.
— Ах, я обязан веселиться? Вот я веселюсь:
— Не надо веселиться.
— Тогда я не понимаю, чего ты от меня требуешь.
— Я ничего от тебя не требую.
— Нет, требуешь!
— Не кричи на меня.
— Ну, я вижу, у тебя воинственное настроение, тебе необходимо поссориться. Но можно не сейчас? Давай отложим.
— Давай.
Женя остановилась, а Чесноков некоторое время шел впереди, не замечая этого.
Потом заметил и обернулся.
— В чем дело? Что случилось?
Женя
— Не слышу,— оказал он и вернулся.
Она поднялась на цыпочки и обняла его.
— Сереженька! Сделай что-нибудь, чтобы нам было хорошо. Придумай что-нибудь, постарайся.
Чесноков смотрел вдоль улицы. Прохожие, сколько хватал глаз, все как один обернулись и стояли, глядя на них.
Он сосредоточился,
Неподалеку от поликлиники Чесноков и Женя остановились. Он показал девушке, как идти обратно. Она пошла домой, а он направился в поликлинику.
В коридоре было пусто — время обеденного перерыва. Но из красного уголка, где обычно проводились пятиминутки, доносились голоса.
Чесноков пошел туда.
Дверь была отворена, но врачи и сестры сидели к ней спиной, и потому его никто не видел.
Собрание вела Ласточкина. За председательским столиком она чувствовала себя удобно, как дома. Опершись на ладошку, она слушала выступающих как бы рассеянно, но учитывала и замечала все.
— А, именинник! — улыбнулась она Чеснокову через дверную щель. — Вот, послушайте, как вас тут честят.
Все обернулись к нему. Врачи и медсестры улыбались, давая понять, что относятся ко всему этому несерьезно, понимают, что тут недоразумение, или случай, или
Чесноков насильственно улыбнулся в ответ: «Ничего, мол, я не унываю!..»
Однако люди доброжелательные, как это часто бывает, вели себя пассивно, считая, что такой врач в заступничестве не нуждается. Выступала Вера, которая навещала Чеснокова дома. Ее возмущало поведение Чеснокова, его особое, привилегированное положение и вообще несправедливое отношение руководства к молодым специалистам. Поэтому она говорила возбужденно и сердито.
— Захвалили Чеснокова, в этом надо сознаться. И вот он уже имеет право посредине рабочего дня устроить себе прострацию и уйти с работы. Представьте себе на минутку, что произошло бы, если бы это разрешил себе кто-нибудь из нас, особенно молодые специалисты. А результат всего этого налицо: вместо одного зуба удален другой, а записан третий…
После нее поднялся Никулин, приглашенный сюда в качестве свидетеля и жертвы. Ему было неловко, что
У него еще побаливала десна, поэтому он говорил с трудом.
— Лишьно я нишего не имею просив тоуаришшя Шеснокова. Помимо того, я хошю поулагодарить за отлишную рауоту тоуаришшя Уастошькину.
Этим он несколько нарушил ход собрания, и Ласточкина решила вернуть разговор в нужное русло.
— Может быть, мы послушаем виновника торжества? А то ругаем его, ругаем, а, может быть, он хочет что-нибудь ответить? Пускай объяснит нам, как он дошел до жизни такой.
Но Чесноков уже быстро шел по коридору прочь.
— Сергей Петрович! — услышал он за собой
Заведующий райздравом Котиков был смутен и как говорить с Чесноковым — не знал.
— Нет, как это вы ухитрились, не могу понять. Не тот зуб!
Это же чепе. Но уж
— Я прошу отпуск за свой счет, — сказал Чесноков.
— Это можно, — обрадовался Котиков. — Я лично считаю, что все дело в переутомлении. Отдохнете, и все будет в порядке.
Он даже проводил Чеснокова до двери и улыбнулся ему вслед, но тот уже этого не видел.
На улице Чесноков приметил Мережковского и хотел было куда-нибудь свернуть, но тот, увидев его, сам быстро перешел на другую сторону улицы.
Чесноков поднял воротник и шагал, не глядя по сторонам. Увидел еще одного знакомого, замедлил шаг и сделал вид, что вспомнил о важном деле, перешел через дорогу. Ему ни с кем не хотелось встречаться. Через некоторое время он снова увидел знакомого, опять сделал вид, что вспомнил важное дело, и перешел через дорогу обратно. Затем увидел еще
Он ни с кем не хотел разговаривать, чтобы ничего не объяснять. Выйдя из ворот, он перелез через изгородь и быстро спустился к реке — лишь бы подальше от знакомых.
Мне довелось долгие годы прожить рядом с ним. Я был свидетелем его успехов и его падений… Сейчас передо мной те страницы его жизни, которые я не люблю вспоминать. Он ушел из поликлиники. Больные постепенно оставили его в покое и страдали от зубной боли, и лечились так, как это принято в наш еще несовершенный век.
Чесноков устроился преподавателем в зубоврачебное училище.
По утрам в коридоре толпились девушки, они были весело озабочены и здоровались со своим преподавателем рассеянно. Он тоже рассеянно здоровался с ними, сдавал в раздевалку пальто и проходил в учительскую. Оттуда с журналом в руке он шел в аудиторию. Приветствуя его, студенты вставали и садились. Это были веселые, но трудолюбивые молодые люди и девушки: специальность они выбрали трезво, не обманываясь иллюзиями.
— Бунчиков, Васильева, — выкликал он по журналу.
Студенты деловито привставали.
— Котикова, Черножукова. Вставать надо.
В аудиторию хотела войти опоздавшая, но Чесноков ее не пустил.
— Закройте дверь, — сказал он.
— Пустите ее, — попросила подруга, — ей неудобно, она комсорг.
— Надо приходить вовремя. Пожалуйста, Котикова. Тетради закройте. Прорезывание зубов.
Котикова вышла к столу. Она сделала удивленные глаза, улыбнулась и пожала плечами. Однако на Чеснокова это не подействовало, и она начала отвечать довольно бойко.
— В прошлый раз мы говорили про аномалии прорезывания зубов…
Приоткрылась дверь, а аудиторию заглянул студент в лыжном костюме.
— Закройте дверь,— не повернув головы, сказал Чесноков.
— Он за городом живет, — вступился
— Надо раньше выезжать.
Опоздавшие, стоя перед дверью, посмотрели друг на друга и отвели глаза. Случайность, которая свела их здесь, была из тех, что иногда во много раз ускоряет медлительные процессы жизни.
Они пошли в буфет. Там молодой человек взял два компота. За высоким, как в баре, столиком они съели компот и пошли на улицу. Потом свернули к реке и стали смотреть на текущую воду.
Возвращались они намного более близкие друг другу, чем сорок минут назад. Когда они подошли к аудитории, то услышали, как Чесноков диктовал:
— Радикальное хирургическое вмешательство в этих случаях применяется только при…
Прозвенел звонок. Чесноков закрыл журнал.
— Давайте закончим предложение! — жалобно вскричали девушки.
— Это длинное предложение, — возразил Чесноков. — Завтра.
Домой он возвращался не торопясь. Встречи со старыми знакомыми уже не смущали его. Вот идет Мережковский. Как всегда, он
— А, мое почтение, — поприветствовал он Чеснокова. — Как жизнь?
— Благополучно.
— Как работа?
— Отлично.
Мережковский проницательно улыбнулся. Перемена, происшедшая с Чесноковым, видимо, подтвердила его ожидания.
— Да… Укатали сивку крутые горки.
Чесноков пошел дальше, а Мережковский смотрел ему вслед, посмеиваясь над парадоксами жизни.
Чесноков расстегнул пальто, сунул, в портфель шарф и снял кепку. Было тепло, вдоль тротуаров текли ручьи. Он зажмурился, чтобы проверить, сколько можно пройти не глядя.
— Здравствуйте, Сережа! — услышал он голос Ласточкиной и открыл глаза. — Что вы делаете?.. У нас с вами какие-нибудь трения? Или как? Я
Мы легко прощаем тех, кому больше не нужно завидовать.
— Все в порядке, — сказал Чесноков.
— Вот и хорошо. А куда вы направляетесь? Пошли на реку, там уже загорают!
— Мне некогда, — сказал Чесноков.
— Нельзя все время заниматься делами. А то, может, за город, поползаем на лыжах?
— В другой раз, — сказал Чесноков,
— В другой раз будет поздно,— засмеялась Ласточкина,— Последние деньки…
Помахав ему рукой, она побежала по улице, потому что в такой снежный солнечный весенний день трудно просто ходить, невольно
Чесноков шел по главной улице. Она блистала, звенела и щелкала капелью. Он шел, поглядывая по сторонам, выбирая, с кем бы поговорить, пошутить.
Вот молодая мама поссорилась с сыном, и они разошлись в разные стороны. Чесноков включился в эту игру и взял ребенка за руку. Тот не возразил, и они пошли вместе, пока мать не догнала их и, смеясь, не увела мальчика с собой.
Он остановился у киоска, купил открытку и, заслонив ее от капели, стал писать.
«…Если у тебя появится какая-нибудь возможность — приезжай. Здесь сейчас…».
По покатой площади он спустился к реке. Она текла ровно и сильно, неся на себе остатки льда. А у длинной каменной стены уже стояли лицом к солнцу мужчины в трусах и девушки в купальниках.
Чесноков улегся на днище опрокинутой плоскодонки, положив под голову портфель. Дятел, размахивая головой, бил клювом в черный ствол дерева. И еще один дятел не в так долбил дерево. Они были похожи на деревянную игрушку, где два человечка колотят молотками. Над ними по небу передвигались облака.
Чесноков перевернулся на живот и стал смотреть на другой берег. Он был странен и ничем не похож на этот. Туманные поля, неясные холмы, иноземный город. Рядом села девушка в платке. Ее друзья поодаль раздевались, чтобы позагорать у стены. Заметив, что Чесноков смотрит на нее, девушка улыбнулась и развязала платок. Ей было хорошо. И Чесноков улыбнулся. Ему тоже было хорошо.
— Сергей Петрович!
Его окликнула Ласточкина, которая в платье стояла у стены и загорала. Она смеялась и грозила Чеснокову пальцем.
— Главное — это не зависеть от мнений, — сказал Чесноков девушке, сидевшей на лодке. — Если ты стал зависеть от мнений
— Это вы мне? — удивилась девушка.
— Я говорю вообще. Но если это вам пригодится, пожалуйста. Вообще, когда ты ни от кого и ни от чего не зависишь, освобождаются гигантские резервы времени просто для радости и счастья жизни.
Он встал и пошел вдоль берега к дому. Сплетаясь, синели лыжни. Со снежных высоток скатывались лыжники, многие были раздеты до пояса, у некоторых на груди висели транзисторы — то громче, то тише, то тут, то там звучала музыка.
Чесноков достал из портфеля газету, прочитал телевизионную программу и пошел быстрей.
Я не согласен с теми, кто клянет телевизор. Как иначе мы увидели бы спортивные соревнования, крупных артистов, писателей, ученых, передачи из Москвы и Ленинграда. Чесноков любил телевизор. Он поставил его так, чтобы можно было смотреть лежа на диване. Под рукой у него всегда была книжка, чтобы почитать, конфеты, чтобы пососать, и соседские дети, чтобы было с кем обсудить передачу.
Но вот он взглянул на часы и поднялся.
— Дети, когда будете уходить, не забудьте выключить,— сказал он.
— А это кто? — напоследок спросил мальчик.
— Это крупнейший в Советском Союзе студент, — ответил Чесноков и ушел.
В те времена мы с ним виделись редко.
Его тогда тянуло к людям случайным, к таким знакомствам, которые не накладывали на него обязательства и никак не посягали на его независимость. Дружба всегда к
Почему в этот вечер он пришел ко мне?.. Вероятно, потому, что, утвердившись в новых убеждениях, он захотел утвердить их и в глазах своих прежних друзей.
Маша уже спала — с тех пор как уехал Костя, кончились песни, исчезли приятели, она ложилась рано, и я боялся, что мы ее разбудим.
— Давненько мы не виделись, — весело сказал он. — Как жизнь?
— Ничего. Как вы?
— Я неплохо. И даже более того: хотите видеть счастливого человека? Вот он. Я решил написать краткое руководство о том, как это делается.
— Тише, — попросил я, — Маша спит.
— Во-первых, я перестал суетиться. Раньше любая неприятность приобретала для меня огромные размеры. Теперь у меня вообще нет. неприятностей.
— Завидую.
— Хотите, я вас научу?
— Буду рад. Только потише.
— Хорошо. Вот один из частных способов: посмотрите на улицу.
— Смотрю.
— И представьте себе, что это другой город. И живут в нем другие люди, которые вас еще даже не знают. И сразу все переменится. И все неприятности остались в прежнем городе, они забыты, их нет!
— Если вам действительно хорошо, то я за вас рад.
— Мне действительно хорошо!
Машу мы все-таки разбудили.
Она вышла непричесанная, заспанная, взглянула на Чеснокова хмуро и хотела уйти, но он сказал:
— Маша! Вы все время смотрите на меня так, словно решаете вопрос, что бы вам предпринять — зажарить меня целиком или нарезать и положить в салат.
Маша пожала плечами в знак того, что не понимает даже, о чем речь.
— Ладно, не будем выяснять отношения. Как поживают наши песенки? Сочинили что-нибудь новое?
— Нет!
— Что так! Население требует песен!
— Песен нет и не будет, — сказала Маша и хотела уйти, но Чесноков ее задержал.
— Так нельзя, Маша. Я должен с вами поговорить.
Я знал, что разговор этот добром не кончится.
— Не стоит, Сергей Петрович, пусть идет, у нее плохое настроение.
— Это по моей специальности, — обрадовался Чесноков.— Это я беру на себя!
— Вы хотите со мной поговорить? — спросила Маша. — Пожалуйста. Веселый человек, я хочу напомнить вам один случай из вашей практики. Помните, как вы не стали удалять мне зуб, а решили гнать зайца дальше?
— Был такой случай, — сказал Чесноков. — Там была одна сложность, комиссия.
— Ах, комиссия? Тогда все в порядке. Где она помещается?
— Она нигде не помещается, это была временная комиссия.
— Куда же мне адресовать заявление?
— Какое заявление! — рассмеялся Чесноков.
— Мне надо подать заявление, что в связи со всеми этими обстоятельствами оказались разбитыми две судьбы. Вот так получилось — две человеческие жизни…
— Не понимаю, — встряхнув головой, оказал Чесноков.
— И все, подумать,
— Маша, успокойся, — сказал я.
Я видел, что она уже не владеет собой. Тут разозлился и Чесноков.
— В чем, собственно, дело? Товарищи! Я не могу нести ответственности за все зубы человечества!..
— Ну, ладно, я спать хочу, — скучно сказала Маша.— Нельзя ли тут как-нибудь потише?
— Подождите, вы меня обвиняете черт знаем в чем. Я должен объясниться…
Но Маша так на него посмотрела, что я сказал:
— Потом, потом, Сергей Петрович. Мы об этом поговорим отдельно.
Чесноков, не прощаясь, вышел. В окно было видно, как он шел по улице, потом взялся вдруг за голову и сел на край тротуара. Я испугался и выбежал, но, увидев меня, он вскочил и быстро зашагал дальше.
На крыльце у его двери сидела неясная в темноте фигура. Он приблизился — это была Женя.
Случалось вам встретиться с любимым человеком в те минуты, когда вам тяжело, когда вам не везет? Помните восхищение, которое вы испытывали перед этим человеком,— так недосягаемо безупречен и чист он по сравнению с вами? Вы помните страх его потерять, потому что в эти минуты вы не уверены в себе, в том, что вас можно любить? И благодарность за то, что он относится к вам
— Я не предупредила,— поднявшись, быстро заговорила Женя.— Но, знаешь, как раз дали стипендию, и я решила съездить.
Чесноков неуверенно шагнул к ней, и она пошла ему навстречу. Они обнялись и так, почти неразличимые в темноте, стояли долго. Он обнимал Женю, глядя поверх ее плеча в темноту. Когда она попробовала оторваться, чтобы передохнуть, или поговорить, или зайти в дом, Чесноков только крепче ее стиснул — он не хотел, чтобы Женя на него смотрела.
— Что-нибудь случилось? — спросила она.
— Да.
— Тебе не хочется говорить?
— Да.
— Тебя кто-нибудь обидел?
— Нет.
— Ты кого-нибудь обидел?
— Да.
Они стояли не разъединяясь. Чесноков сказал:
— Я погибаю. Я погибаю.
Женя вздохнула.
— Что мы здесь стоим, — сказала она. — Пошли домой.
Они закрыли за собой дверь, и весенняя ночь вернулась к своим заботам. У всего снега, который лежал на ветвях деревьев, ночью, хватило сил лишь на одну каплю. Она набиралась долго и на
Когда поднялось солнце, к ней присоединились другие капли. Они засверкали и зазвенели, торопясь и словно извиняясь, что поздно принялись за работу, но та, ночная, все отмеряла свои гигантские секунды, не подчиняясь общей суматохе.
В доме открылась форточка.
Это Женя открыла. Кое-как просунула в нее голову, хотела посмотреть, что творится на белом свете, но от солнца не могла открыть глаза, чихнула и исчезла.
Из дому они вышли вместе.
Чесноков завел Женю во двор училища. Он нашел окна аудитории, где ему предстояло вести занятия, и посадил ее так, чтобы видеть ее оттуда. Послышался звонок, и он добежал в здание.
Он вошел в аудиторию. Студенты встали и сели.
— Где журнал? — спросил он и сам себе ответил: — Нет журнала, забыл. Ну, ничего.
Он подошел к окну и посмотрел вниз. Вернулся, сел за стол и опять посмотрел в окно.
Девушки, сидевшие у окон, тоже посмотрели во двор, но ничего примечательного там не обнаружили.
— Так, надо начинать,— сказал Чесноков, но не начал. Он обхватил ладонями лоб, задумался.
Решив, что он забыл, на чем остановился прошлый раз,
— Мы остановились на фразе: «Радикальное хирургическое
вмешательство в этих случаях применяется только при…»
— Прошу вас, перечислите мне виды зубной боли.
— Боли при пульпите, невралгические боли, — поднялась студентка.
— Адская боль бывает при пульпите,— сказал Чесноков.— Она возникает на несколько минут и повторяется каждые два-три часа. Усиливается ночью, при горизонтальном положении. Спасибо, садитесь. Какие еще есть виды зубной боли?
— Боль постоянная, ноющая.
— Пульсирующая боль.
— Зубная боль, — сказал Чесноков, — это мучения физические и нравственные одновременно. Когда у человека болит зуб, ему кажется, что там происходит
то наверняка окажется, что у твоего собеседника в свое время зуб болел сильнее.
Так много видим мы забот,
Когда нас лихорадка бьет,
Когда подагра нас грызет
И резь в желудке.
А эта боль — предмет острот
И праздной шутки.
Это как бы комическое стихотворение. Но у римлян положено было писать стихами научные трактаты. Они понимали, что наука и искусство неразделимы!..
Женя сидела с поднятым воротником, засунув руки в рукава пальто и обратив лицо к окну. Перед скамьей натекла талая вода. Упершись каблуками, она приподняла носки туфель и постукивала ими.
В окне время от времени появлялся Чесноков. Он
Прозвенел звонок, и он почти сразу же выбежал во двор.
— Тебе не скучно? — спросил он.
— Что ты!
— Тогда тебе надо пересесть.
Он усадил Женю на другую скамью и побежал к забору. Студенты азартно выдергивали из него гвозди. Забор трещал и шатался…
Один за другим преподаватели брали свои журналы, отправлялись на занятия. У двери, вежливо пропуская их, теснилась комиссия — три человека, из тех, кто уже приходили к Чеснокову, и Ласточкина. Чесноков нервничал, возился с портфелем, укладывая туда и вынимая обратно твердые куски пластилина. Он не спешил, он надеялся, что комиссия пойдет к кому-нибудь другому.
Мы бываем уверены в себе, независимы, и держимся достойно более всего в то время, когда ни к чему особенно не стремимся душой. Но едва мы предприняли труд, который стал нам важен и дорог, — как мы становимся беспокойны, ожесточенны, как мы начинаем зависеть от всякого, кто может нам помешать!
— Что это у вас, Сергей Петрович? — опросила Ласточкина.
— Пластилин.
— Пластилин? А зачем? — удивилась Ласточкина.
— Лепить,— сказал Чесноков, и она засмеялась.
Все преподаватели, кроме Чеснокова, ушли из учительской. Главный член комиссии спросил его:
— А у вас что, нет занятий?
— У меня сейчас неинтересно, — сказал Чесноков.— Просто практическое занятие.
— Практика? — оживилась Ласточкина. — Напротив, это очень интересно!
— А почему вы пришли именно ко мне?— спросил Чесноков.— Объясните, в чем дело. У нас вообще нет условий, я давно хотел об этом поговорить. Нужна постоянная договоренность с поликлиникой, а то у нас нет больных. Оказалось, что одной студентке надо удалить зуб, будем практиковать на ней, но это же не выход!..
Ласточкина посмотрела на часы:
— Не будем тянуть, уже десять минут как начались занятия.
Чесноков пошел. Комиссия двинулась за ним.
Кресло в учебном кабинете было одно. В нем сидела девушка в белом халате, и шапочке. В лицо ей ярко светила лампа. Она сидела, открыв рот, и другие студенты, тоже в халатах, по очереди подходили к ней, наклонялись и внимательно осматривали ее зуб.
Чесноков в сопровождении комиссии вошел в кабинет. Студенты поздоровались и раздвинулись, освобождая место.
— Случай всем ясный, — сказал Чесноков, осмотрев студентку. — Резекция нижнего моляра. Удаление сравнительно с остальными зубами часто представляет наибольшие затруднения. Где находится врач при удалении правых моляров? Завальнюк.
— Врач находится справа, несколько позади больного, лицом вперед, — оказала студентка.
— Приступайте, Завальнюк, — сказал Чесноков.
Завальнюк взяла со столика инструмент и стала позади больной лицом вперед.
— Ой, — на всякий случай сказала она и приступила.
Студенты сосредоточилась.
— Трудный зуб, — сказала Завальнюк.
Больная деликатно застонала.
Завальнюк посмотрела на Чеснокова.
— Что-то не идет.
— Что значит — не идет? Наложите щипцы.
— Наложила.
— Продвигайте.
— Продвинула.
— Смыкайте.
Девушка опять застонала.
— Ну вот, — сказала Завальнюк, глядя на Чеснокова.
Больная тронула его за локоть, прося о помощи. Ласточкина
— С ума сойти, с ума сойти, — повторяла она, вертя пальцами папиросу и не замечая, что говорит вслух.
— Завальнюк, сосредоточьтесь! — сказал Чесноков.
— Не кричите, — сказала Завальнюк. Она снова наложила щипцы, но от волнения у нее не ладилось.
Девушка в кресле застонала.
— Помогите вы ей, — сказал главный. — Нельзя же так.
— Она должна сама, — сказал Чесноков.
Ласточкина не выдержала и с досадой сказала:
— Сергей Петрович, как-нибудь прекратите это, вы же врач!
— Я не могу, — сказал Чесноков. — Вы же знаете, что я давно уже не практикую.
— Боитесь за свою репутацию? — спросил председатель комиссии.
— Я не боюсь за свою репутацию, я правда не могу.
— Нельзя сводить счеты с медициной, — сказал Котиков.— Нельзя обижаться на науку!
— Я не свожу счетов,— сказал Чесноков. — Я не могу! Яне могу!
— Как же вы тогда учите студентов? — опросила Ласточкина. Если вы сами не умеете, чему вы учите студентов?
— Я плохо учу, — сказал Чесноков. Сдергивая на ходу халат, он быстро пошел прочь из операционной.
Студенты, теснясь, пропускали его. Они смотрели растерянно, не понимая его и жалея.
Он выбрался в коридор, однако там тоже толпились студенты и так же растерянно, не понимая, смотрели. Наклонив голову и ни на кого не глядя, Чесноков скрылся в преподавательской.
Здесь никого не было. Он надел пальто и остановился в задумчивости. Затем он схватил со своего стола клещи и как одержимый стал выдергивать ими гвозди. Раз! — из стола. Два! — из сцены. Три! — из доски расписания. И, отшвырнув клещи, бросился обратно.
Ласточкина уже наклонилась над студенткой, готовясь удалить зуб, когда у кресла вырос Чесноков.
— Дайте сюда, — сказал он.
Он не знал, что из этого получится, и пока еще не думал об этом. Забытое давно состояние овладело им вдруг. Он был почти ею: это он сидел с открытым ртом и устал так сидеть, это он боялся щипцов и новой боли и того, что, может быть, никому никогда не удастся вытащить этот злосчастный зуб!..
— Ей надо новокаин вколоть,— посоветовала Завальнюк,— а то уже все прошло.
— Вы думаете?
Чесноков сосредоточился, и лицо его стало спокойным.
Рыжая студентка выскочила из кабинета в коридор. Она подсела телефону и набрала номер.
— Это кинотеатр? Это Витя? Витя, сбегай к бабушке, пускай скорей идет к нам в медучилище, тут Чесноков удаляет зубы!..
Однако бабушка пришла поздно. В коридоре медучилища по два-три человека на стуле уже сидела очередь. Перед ожидающими стояла девушка, у которой Чесноков удалил зуб, и давала интервью.
— Ничего-ничего?.. — спрашивали ее.
— Абсолютно.
— А сейчас?
— И сейчас ничего. Нет, какое счастье, когда ничего не болит!
В кабинет входил следующий пациент.
— Товарищи! Все вышли из кабинета! Все вышли! — требовал руководитель комиссии.
Но так как сам он выходить не стал, все только сделали символическое движение в сторону двери, но тоже остались в кабинете.
Чесноков направил на больного свет, осмотрел его и сказал, обращаясь к студентам:
— Итак, поднимаем кресло настолько, чтобы удаляемый зуб находился на уровне плечевого сустава врача.
Он поднял кресло и взял со стола щипцы.
— Вот как надо располагать пальцы. Тогда одной рукой легко сдвигать и раздвигать щипцы.
Вот тут в этот момент, как теперь подтверждают многие, студентка Карпова, и сказала:
— Сергей Петрович, можно мне?
Члены комиссии удивились, а подруги зароптали. Но она, мучаясь и проклиная себя, еще горячей взмолилась.
— Сергей Петрович, разрешите мне! Один раз — и все. Прошу вас!
— Пожалуйста, — сказал Чесноков и отдал ей инструмент.
— Доктор, — забеспокоился больной. — А вы?
— А я здесь, я не ухожу.
Карпова сосредоточилась и на минуту стала равнодушна ко всему, кроме сидевшего перед ней человека. Лицо ее было спокойно, и только глаза возбуждены и даже веселы. Она наклонила голову, сделала почти незаметное движение рукой и, тихо ликуя, сказала:
— Все.
— А зуб? — спросил больной не сразу.
— Вот он!..