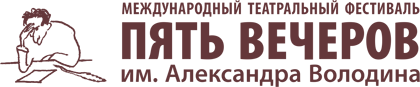Марина Дмитревская
«…Мне был праздник дарован…»
 |
Чтобы написать воспоминания о Володине, Его нет не потому, что я хотела бы открыть В старом спектакле театра Ленсовета Века меняются и нравы, |
|
Слова эти я тогда, в начале 70-х, запомнила на всю жизнь, и десять лет нашей дружбы с Александром Моисеевичем были омрачены этим четверостишием: я боялась, чтобы не подумали — греюсь в лучах. Однажды я сказала ему: «Меня часто спрашивают, знакома ли я с Вами, а если знакома, то почему наш журнал не печатает беседы с Вами, когда все печатают». «Если бы ты печатала интервью со мной, мы бы с тобой не дружили», — ответил Володин. И мы выпили за то, что все правильно. Потому что как можно задавать вопросы близкому человеку, когда знаешь ответ, а ему на них отвечать, делая вид, что перед ним сидит чужой корреспондент? Правильно ли теперь — «в лучах чужой бессмертной славы»? Но только сейчас понимаю, как же много, оказывается, о нем, очень закрытом, я знала. Как часто его видела. Как много наблюдала. Как много он успел рассказать мне о себе. Какими откровенными были иногда наши разговоры, может быть, потому, что и моя жизнь была ему совершенно открыта. Кстати, он говорил: «Не живи так открыто»… Иногда предупреждал: «После моей смерти выйдет такая-то публикация. Но ты знай — это неправда, я тебя предупредил при жизни, можешь на меня ссылаться и опровергать». Но о чем-то не предупредил, и теперь нужно написать о нем так, чтобы ему не было вдруг неловко. Но — написать. Но — чтобы не было неловко. А ему ото всего было неловко. И что теперь? Многие из тех, кто хорошо его знал и кого он любил, умерли и уже не напишут… ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ
Александр Володин
Почему-то точно помню тот день (я училась в 6-м классе), когда на втором этаже Дома книги я купила серую шершавую книжку с красным кругом на обложке — «А. Володин. Для театра и кино». Мы тогда только-только переехали в Ленинград, я никак не приживалась в его сером климате и каменисто-болотистой почве. Кончались 60-е. И ощущение Ленинграда и 60-х навек связалось с этой серенькой книжкой и с фамилией Володин. «Оптимистические записки», «Похождения зубного врача», «Происшествие, которого никто не заметил», «Пять вечеров», «Загадочный индус» и, конечно, «Старшая сестра» — это и есть мои 60-е. И детское чувство: а вдруг с тобой произойдет происшествие, которого никто не заметит, и ты проснешься красавицей? Или актрисой? И пройдешь, как Доронина с авоськой в первых кадрах «Старшей сестры», по Большому проспек ту Петроградской сто роны? (Если б я знала тогда, что Володин живет именно на Петроградской и в 90-е я буду ходить туда маршрутом Дорониной из первых кадров «Старшей сестры»…) Эта книжка, поверх грустных сюжетов, давала шанс, внушала надежду на то, что жизнь может состояться, поддерживала замечательное чувство безбытности. Потом, на вступительных экзаменах в институт, зачитанную и затрепанную книжку у меня стащила абитуриентка по имени Ира (фамилию помню тоже!). Были другие, но уже не такие родные сборники Володина, и я всегда скучала по той, серенькой, шершавой, как ленинградский асфальт. Прошло больше тридцати лет. В середине 90-х Володя Оренов попросил меня познакомить его с Володиным, чтобы снять программу «Фрак народа». Я привела съемочную группу домой к Александру Моисеевичу на Большую Пушкарскую. В конце стали снимать панораму разложенных володинских книг, и вдруг я вижу — она, серенькая, точно такая! «А. М., вот такую у меня когдато стащили…» И Володин тут же схватил книжку: «Возьми». Надписал ее. Так через три десятилетия (!) ко мне вернулась «моя» книжка, только с бесконечными правками Володина. То есть что? То есть жизнь состоялась и я проснулась красавицей! 
Марина Дмитревская и
Александр Володин (1998) А потом он подарил мне другую книжку. Я носила ее в рюкзаке и гадала на ней. Дурь, конечно. Открою с утра, ткну пальцем — и начинаю день. Это был довольно нервный период моей жизни, и я надеялась в володинском слове найти опору. Но проблемы не изживались и даже усугублялись. Открою с утра — печально, вечером — совсем нехорошо. Уже и книжка истрепалась вконец… Володин, зная, что я гадаю на его текстах, внимательно, я бы сказала, пристально следил за процессом. И однажды заявил: — Прошу тебя, возьми другую книжку! На моей у тебя никогда ничего хорошего не получится! Как раз тогда меня позвали на презентацию его тоненького сборника стихов «Монологи». Это был 1995. На Малой сцене БДТ выступали разные люди, выкликнули и меня. Было понятно, что с прошлой «гадательной» книжкой дело не удалось, надо обновить другое издание. Дурь, конечно. Я вышла на сцену и попросила Александра Моисеевича своей рукой передать мне «Монологи», чтобы на сей раз я погадала ему, продемонстрировав магическую силу его слова. Он протянул мне экземпляр, я ткнула куда-то, и вышло: «А к концу мне был праздник дарован…». — Вот видишь, это другая книжка, — сказал потом А. М., потому что выход сборника действительно в тот момент был для него радостью. …Я и сейчас иногда открываю какой-нибудь его сборник, тыкаю пальцем, задаю вопрос — и Володин отвечает мне. ДОЧКИ-МАТЕРИ
В редакции «Петербургского
театрального журнала» Биография нашей дружбы условно располагается между тремя надписями. «Марина! Как жалко, что Вы не дочка моя!» — написал Володин то ли в 1990, то ли в 1991 году, в третьем ряду БДТ, на спектакле «За чем пойдешь, то и найдешь». Нам случайно дали места рядом, Володин меня почему-то знал и, уже слегка подвыпивший, разговорчивый, вынул из кармана маленькое первое издание «Записок нетрезвого человека» и надписал. Это не имело ровно никакого продолжения. «Вы как хотите, а я ее удочеряю» — написал он 12.11.1992. Когда возник «Петербургский театральный журнал» и мы решили первым позвать в редакционную каморку «надыхивать» атмосферу именно Володина, — он выпил водки и в итоге написал на листе заявление. Листок с тех пор висит на редакционной стенке рядом с моим «Назначением»: я назначила тогда Володина отцом журнала. «Мариночка! Несмотря на наследственность, будь посчастливей! Доченька моя! Живи лучше, чем я прожил свою жизнь. А ты будешь — искупление моих грехов». Это он писал уже в дни своего 80-летия, когда давно обнаружилась и была печально им констатирована «тяжелая наследственность»: неумение никому сказать «нет», каждодневное желание забиться в угол («Забудьте, забудьте, забудьте меня…»), полное неумение сдерживаться и молчать… Когда я рассказывала ему, как опять пришла в негодование от какой-то дряни и в очередной раз испортила отношения, он охал, а потом говорил: «Знаешь, у меня то же самое». Это была самая частая его реакция на любой рассказ. Знаю точно — так он говорил не только мне, а многим: ему искренне хотелось, чтобы его тоска нашла родственную тоску, оказалась еще чьей-то. Ведь если сегодня все себя плохо чувствуют, а не ты один — значит, ты не умираешь, а просто погода такая… Мы дружили десять лет, иногда разговаривая по много раз в день, а иногда А. М. надолго пропадал, переставал звонить, проваливался. В такие периоды ему надо было быть одному. Однажды, после его очередного долгого провала в темноту, мы договорились, что, как только ему захочется выпить, он будет набирать мой номер. И он звонил: «Мне выпить 50 г или у тебя есть время поговорить?» И я заменяла 50 г по три раза в день. Мне всегда неловко было ему звонить, потому что он великий (это не забывалось ни на минуту), а ему всегда было неловко звонить, потому что отрывает меня от дел. Мы жаловались друг другу, ходили в театр, ездили то на «Золотую маску», то на 100-летие МХАТа, то в Омск. Постепенно и незаметно мы так сблизились, что, если меня не было дома, он подолгу разговаривал с моей мамой. Однажды мы возвращались с какого-то вечера из театра Ленсовета. Я поймала машину. «У меня в кармане только двадцать рублей, так что ты довезешь меня до метро и высадишь», — категорично заявил Володин. «Ага, сейчас, высажу, только ждите», — ответила я. «Я за счет женщин не езжу!» — еще категоричнее сообщил А. М. и повторял это всю дорогу, до самого дома. Поняв, что проехал-таки за мой счет, замолчал и расстроился. Было страшно скользко. Мы долго шли по гололедному двору, Володин был мрачен. И вдруг, как это было ему свойственно, воскликнул не без юмора: — А! Так ты же дочь! — Дочь. — Так ты должна! Это был выход, можно было спать спокойно, он не воспользовался услугой женщины! ОСЕННИЙ МАРАФОНО мужчинах и женщинах он знал все. Это понятно из его пьес и стихов, из того, как он слушал и какие советы давал. Володин, как настоящий реалист, ненавидел счастливые финалы в искусстве. Но — парадокс — кажется, до последнего ждал, что жизнь опровергнет его и чья-то история окажется счастливой. Мерилом мужского достоинства у него было слово «поступок». Сам никогда не решавшийся в личной жизни поступить, мучившийся этим, всегда говорил: «Это поступок. Поверь мне, это нелегко». Однажды он рассказал мне о том, как женился (может быть, этот рассказ не вполне достоверен, но в тот момент ему казалось, что все было именно так). Пришел с войны, откуда ждала его Фрида, но единственным чувством была смертельная усталость. Хотелось спать, только спать, больше ничего. И они договорились пока не жениться. «Вот однажды я шел за керосином и зашел к Фриде. Выходит ее отец и спрашивает: „Шурик, а когда вы с Фридой поженитесь?“ Я говорю: „Мы пока договорились не расписываться. Фрида, подтверди“. А Фрида говорит: „Нет, мы не договаривались“. Отец обрадовался: „Ну так идите прямо сейчас и распишитесь“ (после войны быстро расписывали). Я ему говорю: „Я за керосином иду, и паспорта у меня с собой нет“. — „Ну так сходите за твоим паспортом“. Мы сходили. Расписались. Потом я купил керосин. И так оказался женат навсегда». За свой марафон он платил всю жизнь, их совместная старость (за исключением двух последних лет) казалась мне страшной карой: ей — за то, что не ушла, ему — за то, что не решился уйти. Обоим — за то, что не освободили друг друга. Александру Моисеевичу все время хотелось искупить свои вины, он старался ухаживать за старой женой, но кривить душой тоже не очень-то мог. С другой стороны, может быть, именно в этих терзаниях двойственности был для него источник драматизма, рефлексии, тоски по лучшей жизни. Хотя в этом он даже сам себе, думаю, не хотел признаться. При всем трепетном отношении к Женщине, у него была классическая мужская психология. «Знаешь, однажды мы встречались в парке. И она бежит мне навстречу, а я не бегу. Потому что она бежит». Он знал, как ведут себя жены изменивших мужей, какие этапы проходит влюбившийся мужчина, если он надумал разводиться, как затухают, гаснут, пропадают благие порывы и глубокие чувства и как это все обыкновенно. До отчаяния и тоски… Незадолго до смерти одну мою личную историю назначил историей со счастливым концом и стал его ждать и интересоваться драматургией жизни. И когда за месяц до смерти узнал все скорбные подробности финала — стонал. Именно — стонал, подвывал. Опять не сбылось, оказалось как у всех и всегда. А времени ждать уже не оставалось. Главным человеком его жизни, но, кроме того, настоящим мужчиной, героем (не чета ему!) для Володина всегда был Олег Ефремов. Вот кого не хватает в этой книге — его Олега! У меня сохранился клочок давнего ефремовского рассказа, который хоть чуть-чуть может дать представление об их общей жизни. «Был потрясающий случай, связанный с Ленинградом. Много лет назад, — рассказывал Ефремов. — Ну, ты знаешь, когда уже нет никакого выхода? Мне одно прикрыли, другое не разрешают… В такой момент я приехал в Ленинград, пришел к Сашке Володину, а он тогда только получил свою новую квартиру… Настроение жуткое, страшное, просто — до отчаяния. И мы с ним выпиваем. Крепко. Но я не пьянею. От какого-то внутреннего жуткого раздрая, что ли… Он проводит меня в комнату, но учти — квартира новая, безо всякой фурнитуры, без дверных ручек… Я кидаюсь на кровать, засыпаю — и просыпаюсь, видать, пьяный уже. Ну, то есть во сне дошел. Просыпаюсь пьяный и понимаю, что я… в камере. И вдруг все жуткое, что сидит во мне, отступает! И я начинаю плакать счастливыми слезами оттого, что — Господи! — я свободен! Я свободен, мне не надо ничего решать, ничего делать! Все! Это было здесь, в Ленинграде, у Сашки». Однажды МХАТ приехал на гастроли. От Ефремова позвонила его секретарь Таня Горячева, попросила привезти А. М. на «Трех сестер». Володин был абсолютно не в форме (чуть позже его долго приводили в порядок в госпитале), шли дни, оставался один спектакль. И вдруг звонок Марьям: «Заезжай за ним, он пойдет». То есть рефлекс увидеть Ефремова был сильнее всех других. Когда я заехала на машине, А. М. обнял шофера и сказал: «Олег, прости, что я не приехал к тебе вчера!» В этой реплике смешалось все сразу. Вся жизнь. Но поскольку Ефремов был для него символом настоящего мужчины, то и женщина становилась героиней, если на нее обращал внимание главный человек его жизни. В этом смысле мне «повезло»: в последние годы Володин (даже по телевизору!) как будто хвастался, показывая на меня: «Ее сам Олег замуж звал! Звонил, у меня просил разрешения! И я разрешил». На самом деле это был горький трагикомический анекдот. 
В 1998 году со спектаклем БДТ «Аркадия», который я помогала делать, мы были на гастролях в Москве. МХАТ. Антракт. Я с буклетами спектакля в руках. Зовут в кабинет Ефремова, который всегда относился ко мне и к журналу дружески-сердечно. Он был уже совсем болен, тяжело дышал. «Пью виски с боржоми…» — начал Олег Николаевич, и я поняла, что уже немало виски утекло за вечер… «Сядь. Расскажи…» А потом вдруг: «Знаешь, ты мне нравишься. Выходи за меня замуж». Понимая размеры бедствия, я приводила разные доводы: в Питере квартира («Поменяем!» — решительно заявлял Ефремов), я преподаю в институте («Наберешь курс в ГИТИСе!»), сын учится («Переведем!»), журнал («Будешь издавать журнал «Театр!»). Разгоряченный Ефремов уже «все решил»: после спектакля мы поедем в ресторан с каким-то испанцем, а жить вообще будем на даче, потеснив дочь Настю. Спасти меня было некому, Т. Горячева уже ушла, и я нащупала последний аргумент: «Олег Николаевич, у меня есть приемный отец, Александр Моисеевич, я не могу без его разрешения…» Что я наделала! «Алло, Шура? Во-первых, пей виски с боржоми, это хорошо. Во-вторых, тут у меня сидит Марина, я зову ее замуж, то есть хочу жениться, но ей нужно твое разрешение…» Пауза. И я прекрасно понимаю, что в Петербурге, на Большой Пушкарской, в этот поздний час, когда уже выпита дневная доза, меня отдадут замуж легко и сразу… «Все. Он разрешил!» — положил трубку Ефремов. «Олег Николаевич, мне к нашим актерам надо… Можно я подумаю?» — бормотала я, прижимая к сердцу буклеты и ретируясь к двери. И тут тяжело дышащий Ефремов, Айболит-66 моего детства, герой, перед которым не могла устоять ни одна женщина, тяжело глядя на меня снизу, произнес: «Тебя сам Ефремов замуж зовет, а ты думать будешь?..» Боже, сколько было в этой интонации. Вся жизнь. Которая заканчивалась. После спектакля меня искали, потому что в течение второго акта «Аркадии» ресторан и испанец еще не потеряли актуальности. Я сбежала. В Питере телефон зазвонил буквально сразу же, как я приехала, и очень возбужденно. Володину хотелось знать, чем дело кончилось. То есть что? То есть я вдруг проснулась красавицей… А О. Н. Ефремов не зря был для А. М. Володина настоящим мужчиной. Где бы мы ни встречались с тех пор, он сухо кивал мне и проходил мимо. Значит, несмотря на виски с боржоми, не забыл… А теперь, и правда, — Господи! — я свободен! Оба свободны. И — никакой фурнитуры… НАЗНАЧЕНИЕНезависимость воспеваю. Володин был абсолютно свободным человеком, хотя сам-то все время чувствовал несвободу. Его свобода проявилась и в том, что он искренне, бесстрашно обнародовал и сделал достоянием искусства две свои личные драмы: «Осенний марафон», фильм на все времена, воплотил его в «горестную жизнь плута», а «Записки нетрезвого человека», в традициях русской литературы, узаконили идеологию пьянства как освобождения. Диалектика свободы — несвободы была парадоксальной. Случалось, мы вместе оказывались на похоронах, панихидах. Он всегда стоял у притолоки, чтобы быть незаметным. Его место всегда было именно там — «прислонясь к дверному косяку«. И когда после вручения «Триумфа» всех привели на встречу с Путиным, он тоже вжался в угол у двери. «Но, представляешь, входит Путин, а я — первый, у двери, и он мне первому жмет руку! Так неловко. А я все хочу ему про Чечню сказать — какой там ужас!» 
Александр Володин
И ведь сказал во все камеры, которые ждали от него ликования по поводу премии, — именно про войну. Как солдат, прошагавший ее от звонка до звонка. «Я не могу смотреть спектакли про войну, потому что сапоги стучат по планшету. А самое сильное физическое ощущение от войны — четыре года отсутствия пола…» И еще он говорил: «Они играют военные спектакли в гимнастерках, а мы уходили на войну в клетчатых ковбойках. Гимнастерка защищает, а ковбоечка — нет. И мы всю войну чувствовали себя незащищенными». Фетиш свободы для их поколения был просто какой-то болезнью. Иногда — до смешного. Когда в последнюю володинскую зиму его жена, возле которой он дежурил ночами, попала в больницу и А. М. остался в доме один, под присмотром приходившей накормить его Марьям, он со стыдом признавался мне, что испытывает блаженство: один! свобода!.. Жена была плоха, не было уверенности в том, что она вернется домой, и Володин почувствовал, что к нему хочет переехать Л. (как он ее звал в наших разговорах), героиня его последнего — двадцатилетнего — «осеннего марафона». Еще незадолго до этого он писал ей стихи, встречался… А тут звонит мне как-то ночью и решительно заявляет: — Я от Сталина не зависел, от Хрущева не зависел, от Брежнева не зависел, от Горбачева не зависел, от Ельцина не зависел… и от Л. зависеть не буду! Он мог сегодня говорить одно, завтра — другое, всегда утром извинялся за сказанное накануне вечером, ему вечно и за все было стыдно, неловко. Конечно, чувство стыда усугублялось выпиванием (если вечером пил — с утра всегда неловко) и стало тяжелым коммплексом. Но именно он, счастливый и несчастливый, с легкостью человека без страха (только с упреками и только самому себе) говорил о нашей жизни то, что хотел, видел ее так, как видел. До самого своего конца. Ему было стыдно за советскую власть, чиновников, их подчиненных и за себя, который ничего не может сделать. Ему было стыдно за тех, кто едет в «мерседесах», и тех, кто си дит на паперти, и за себя, который опять ничего не может. Было бы неправдой сказать — он не знал, кто он. Знал. Ему так часто говорили о его величии, его так искренне любили, что, конечно, в глубине души он знал себе цену. Но так же искренне старался забыть ее, чтобы не чувствовать неловкости. 

Когда посыпались премии, подарки, его комната ничуть не изменилась. Он куда-то все девал, раздаривал. Редкая птица, которая прижилась в его комнате, была действительно… птица. В самом начале 90-х мне подарили эту мягкую игрушку в Германии, и она сидела в редакции. Однажды пришел Володин, встал напротив — и как будто посмотрелся в зеркало, так он и птица были похожи. Я сунула ему носатую, с бусинками-глазами, в седых лохмах птицу — и она просидела у него на шкафу до самой смерти. А в сороковины я съездила на Пушкарскую и с разрешения близких забрала птицу в редакцию. Она живет в подвале «Петербургского театрального журнала», поражая всех своим сходством с Володиным. Неремонтированная кухня, потолок в лохмотьях облупившейся краски, старый холодильник. Кажется, ему было неловко хоть как-то улучшить свой быт, когда другие живут плохо. Или он боялся искушения «другой жизнью»? Все было неизменно: на стене, над пианино, на котором играл Окуджава (а соседи стучали в стенку, чтобы прекратили шум), всегда висела фотография Лены Прокловой из фильма «Звонят, откройте дверь!», под стеклом лежали фотографии Фриды-девочки, детей и Беллы Ахмадулиной. Эту квартиру я бы превратила в музей шестидесятничества. Может быть, это был единственный дом знаменитого человека, устоявший перед натиском комфорта и евростандарта. Он не дал возможности и права себя прикормить. Никому. Никакому времени. Получив «Триумф», большую часть его Володин отдал Марьям, чтобы она смогла выехать из коммуналки. Много-много раз говорил мне об этом как о своем сильном желании. Премии и награды воспринимал с каким-то легким взмахом руки: «Ай!» — как что-то незначительное. «Триумф» — это целая история. Во-первых, двойственность премии его очень напрягала: он понимал, что деньги Березовского связаны с Чечней, а он ехал, чтобы выступить на вручении против этой войны. Был так напряжен, что потом с юмором, рассказывал: «Сижу на диванчике и все думаю, как бы сказать про Чечню. И садится рядом Березовский, и говорит: «Ну, ты как?» А я ему: «Мы с вами на „ты“ не переходили». Он: «Ты что, Шура, забыл, как мы с тобой выпивали?» А я ему опять: «Я с вами водку не пил и первый раз вас вижу». И вдруг понимаю — это не Березовский, это Миша Жванецкий! А потом нас на банкет к Березовскому домой повезли, и я понял, что все мои друзья там часто бывают: то Белла, то Андрей мне сразу стали советовать, что вкусно, а что нет. Значит, они там были не в первый раз. А посреди зала стояла ледяная статуя женщины. В одной руке у нее — тазик с красной икрой, а в другой — с черной… И она меня так, эта статуя, поразила, что я быстро напился, а в 12 ночи меня повезли на телевидение записывать передачу «Доброе утро». И спрашивают: «Как вы относитесь к драматургии Арбузова?» А я и говорю: «Очень люблю его пьесу „Без вины виноватые“. «… Представляешь? Так стыдно, а исправить уже нельзя». Смешно рассказывал, как принял звонок премии «Ника» за предложение участвовать в презентации мебельной фирмы и нагрубил… В последние годы он всем был нужен, его непрестанно куда-то звали. «Меня поставили на место Лихачева и сделали пророком. Это ужасно!» — говорил он, но не мог отказать никому. Мчался на какие-то встречи, поддерживать Союз правых сил, выступать против Милошевича, смотреть студенческие спектакли… Его звали, им пользовались, но часто не присылали машину, не отвозили домой, а он по скромности даже не претендовал, хотел быть как можно незаметнее… И ездил на метро. Торопясь поддержать Хакамаду, бежал по Фонтанке, не заметил низко натянутой строительной веревки, упал, поскользнувшись на заледенелой мостовой, расшиб в кровь ладони, едва добежал. Ему обмыли руки и посадили в президиум. Я стала плохо относиться к Хакамаде, которая позвала Володина, но машину 80-летнему классику не прислала… Он был всем нужен, потому что если рядом сидит Володин, значит, вроде и у тебя есть совесть. Он не мог никому отказать и был для всех бесконечной индульгенцией. Жил, не умея сказать «нет», вечно терзаясь какими-то «ошибками и стыдами». А в последнее время у него даже не спрашивали ни на что разрешения… ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!Великие люди писали посланья знакомым. И все издают их, переиздают до сих пор. Мы писем не пишем, беседуем по телефону. Не увековечен наш бедный, смешной разговор. — Скажи, что мне делать! Я дал Олегу Ефремову почитать одну старую пьесу и сказал, чтобы, когда прочтет, — выкинул в мусорную корзину. А они уже репетируют. Что делать?!! — Понимаешь, меня не спросили, а просто объявили, что будет презентация книжки под названием «Друзья мои, остались только вы…». Я не хочу никакой презентации. Сначала я решил не ходить. Но неудобно — соберутся друзья, они же ни в чем не виноваты… Придется пойти. И скажу: «Я прожил свою жизнь без презентаций. Не хотел и этой». («Твои попытки жить незаметно ни к чему не привели», — прочел ему на этом вечере Жванецкий.) — Скажи, что делать! Позвонил Невзоров, спрашивает: «Видели ли вы фильм „Чистилище“»? Я говорю: «Нет», но неловко, и я добавил: «Хотел бы посмотреть». Тогда они приехали, повезли меня на Ленфильм, специально показали мне картину. Одному. В пустом зале. А после просмотра выхожу — а тут уже и камеры, и аппараты: «Только для нашей группы. Каковы ваши впечатления? Вам понравилось?» Но я же у них в гостях! И я говорю: «Понравилось». Они записали это на пленку. Теперь скажи — как это исправить?! Куда позвонить? Ведь мне не понравилось, а запись осталась! — Послушай, мне опять звонил ОН! Что к ним придет депутат Шелищ, чтобы дать им новое помещение для театра, и я там должен быть одновременно c Шелищем, потому что Шелищ, Шелищ, Шелищ… А я не хочу! У них три человека в зале, зачем им большое помещение? Но ОН звонит и умоляет. Я посылал его уже три раза, просил оставить меня в покое. Не действует. Придется идти… Я стал игрушкой в руках людей… Когда мне ничего не хотелось писать, Коля Якимчук сам составил эту книжку из моих рукописей и случайных заметок. Она мне не нравится, мне стыдно… Посоветуй быстро, как мне поступить. Мне принесли рукопись мемуаров, чтобы я написал рецензию. Автор много лет сидел, но читать невозможно, я одолел только пять страниц. Звонят: скажите ваше мнение. Я сказал, что книга хорошая (понимаешь, он много лет сидел). Тогда они звонят: напишите рецензию. Но я не могу написать рецензию, я не смог одолеть больше пяти страниц! Они сейчас придут меня уговаривать. Что мне делать? Это читать нельзя! Найди сейчас аргументы. Чтобы я был уверен в себе и действовал решительно. — А. М., так и скажите: извините, не могу, не хочу, плохо себя чувствую. Твердо скажите. Через несколько минут: — Алло, все стало еще хуже, теперь скажи, как мне все исправить. Я обидел людей. Они позвонили в дверь, с коробкой конфет. А я их даже не впустил в квартиру и закричал так, как ты советовала: что ничего писать не буду, что не хочу и чтобы они шли к черту! Я послал их матом… И даже, кажется, конфеты выбросил, потому что боялся согласиться. Это было ужасно, мне стыдно. Что теперь делать?! 
Виктор Шендерович, Марина Дмитревская и Александр Володин
Но бывали экстренные звонки и другого рода: — Срочно приезжай. Мне сейчас позвонил человек, ты даже не представляешь кто. Я перед ним преклоняюсь, я один не смогу с ним разговаривать, потому что очень волнуюсь и не буду знать, как разговаривать. Ты меня спасешь. — Кто это, Александр Моисеевич? — Он великий. — Да кто же? — Его фамилия Шендерович. Он говорит, что приехал специально ко мне. Срочно выезжай, пока он не пришел. Витя Шендерович слегка обалдел, когда дверь ему открыла я и, как помню, еще в прихожей быстро объяснила, что нахожусь здесь только потому, что Володин перед ним робеет и боится, что не сумеет поддержать беседу… Или еще: — Я полез в шкаф. И вдруг обнаружил там пьесу, о существовании которой забыл. «Хосе, Кармен и Автор». Знаешь, она мне так понравилась, мне не было стыдно ее читать. Приезжай завтра утром, я тебе ее покажу. Назавтра, очень рано: — Не приезжай. Я прочел пьесу с утра и понял, что я правильно забыл о ее существовании. Она очень неудачная. ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
Ольга Никифорова и Александр Володин
(Омск, 2000) Как-то Володин позвонил ночью. «Знаешь, я подумал — мне осталась в жизни одна поездка. И я хотел бы поехать в Омск. Где-то я про него читал — то ли у Пастернака, то ли у Эренбурга. Он представляется мне таким белым городом, и в нем живут интеллигентные люди…» А. М. действительно давно никуда не ездил (иногда — Москва и за несколько лет до этого Америка), а ночные фантазии — что ж с них взять? Поэтому совершенно безответственно, просто так, этой же ночью я послала е-mail омскому завлиту Оле Никифоровой, давно приглашавшей Володина в Омск: «Оля, Володин хочет в Омск. Что ты про это думаешь в принципе?» — и легла спать, поскольку две зимние поездки на премьеру «Происшествия, которое никто не заметил» у нас благополучно сорвались (Володин ездил в Москву за премиями, уставал, и я понимала — никуда он не поедет. К тому же — конец июня и конец сезона, какие там поездки!). Утром в редакции меня ждала записка: «Марина, самолет 23 июня, 25 — спектакль, 26 — юбилей Ицкова, 27 — назад. Володин согласен. Билеты привезет Бутусов. Целую. Оля». Как-то все вдруг сложилось, что обычно свидетельствует о покровительстве свыше. И то, что в репертуаре оказался «володинский» спектакль, и то, что рядом — юбилей актера Юрия Ицкова, которого Володин полюбил еще на «Балтийском доме», посмотрев «Академию смеха», и который играл «его», Автора, Володина в этом самом «Происшествии…». Словом, это было действительно — происшествие. Впервые за много лет А. М. Володин летел в театр «далеко от Москвы» (потом он предлагал именно так назвать статью о нашей поездке). Я обещала ему, что в Омске будет хорошо, потому что там не бывает плохо. Он кивал, но уверенности не испытывал и, когда заехал за мной, был уже так «напряжен», что всю дорогу я беспокоилась только о благополучном исходе нашего полета. Мне нужно было привезти классика назад в целости. А дальше в 5 утра у трапа самолета его начали кружить актрисы-девушки-русалки (а солнце слепило, и после ночи в самолете все вообще смешалось: Ю. Ицков с хлебом-солью, В. Петров без хлеба и Б. Мездрич без соли…). Потом, утром, у театра толпа «цыган» так неподдельно искренне величала его («К нам приехал, к нам приехал Александр Моисеевич дорогой…»), что в первый момент он принял их за настоящих (солнце по-прежнему слепило, а водка была настоящая, и настоящие столики уличного кафе «У Гавриловны» тоже не вызывали сомнений…) — и с этого момента началось счастье трех дней в Омске. «Хорошее общение с хорошими людьми, устремленными друг к другу, — это и есть счастье, — говорил Володин. — Здесь другие лица. Более достойные, более умные, чем в Петербурге, где все бегут. Нет, в Петербурге еще не так бегут, там все рассеянны, но двигаются потише, а вот в Москве уже вообще ни на кого не смотрят!» 
О. Никифорова, А. Володин, М. Дмитревская (Омск, 2000)
Днем он общался-общался-общался, выступал-выступал-выступал по телевизору, а по ночам читал журнальчик «Письма из театра» и какие-то пьесы. «Оля, я больше не могу слышать, что я великий и классик!» — жаловался он Никифоровой. «Раньше надо было думать, когда за ручку брались пьесы писать», — отвечала завлит театра. Мы все очень много хохотали под ее чутким руководством. Был затеян даже «осенний марафон» с соперничеством актрисы Маши Степановой («Я тебя полюбил!») и Оли Никифоровой («Я и тебя полюбил!») — «театр жизни», в котором Володин играл с удовольствием, как и его партнерши, и две скамейки у театра часами переживали «аншлаги» на этих импровизированных спектаклях (многочисленные фотокамеры запечатлели этапы и настроения). «Как вы спали?» — спрашивала его с утра Никифорова. «Хорошо». — «Небось Машка снилась?!!!» Так начинался день. «И как тебе удалось сохранить такой юмор, когда сын в Петербурге, муж в Новосибирске, сама в Омске и мама болеет?» — поражался Володин, глядя на Олю. Ицкова он сравнивал с Евстигнеевым — одним из любимейших своих артистов («Я вчера сказал Ицкову — я дарю тебе свою Маску „За честь и достоинство“, а он обещал мне в ответ свою, прижизненную. Таким образом, у него будут честь и достоинство, а у меня будет лучший актер!»). Маша Степанова была назначена им в те дни «лучшей артисткой России»… 
Юрий Ицков и Александр Володин
(Омск, 2000) «Перед смертью Олег Ефремов говорил мне о том, что во МХАТе осталось три актера, что у следующих поколений нет ни способности мыслить, ни сердечного отклика на то, что происходит на сцене и в жизни. Другой режиссер мне говорил: нет красивых людей, к нам не приходят красивые женщины, они идут в другие места — туда, где можно заработать. То есть — нет красивых, мало умных, всё не то. А здесь! Так сохранен театр, такие красивые женщины — заглядишься, и такой умный Петров! Что он сделал из этого спектакля! Я писал это просто так. Сказочка. Ну, вижу — плохо, ну — не получилось, и больше я это никуда не давал, не перепечатывал, стыдился. И когда он решил это ставить, я подумал, что он недалекий человек, наверное, сентиментальный. Ну, бывает… Мысль, которая у него возникла по поводу этой неудачной сказочки, была неслучайна (он умный!). Все, что я делал в жизни, — я писал про земное, но обязательно с внутренним ощущением чего-то высшего. И он соединил это в спектакле. Мама героини больна, сама она одета плоховато, все трудно и худо — и вдруг на сцене большой симфонический оркестр, который играет Чайковского и участники которого входят в действие! А как точно Ицков все делает! Мне захотелось быть таким же, как он, — добрым, мудрым, сострадательным». В последний вечер А. М. поставил меня по стойке смирно посреди своего номера, налил рюмку и сказал: «Давай поклянемся, что сделаем все, чтобы Омская драма приехала на гастроли и показала спектакли и чтобы „Происшествие“ показали по телевидению». Мы поклялись и выпили. И клятву свою не выполнили. Когда А. М. умер, мне позвонил В. Петров и попросил от его имени попрощаться с Володиным. Я купила тонкую ветку розовых гвоздик, и так случайно получилось, что ранним утром, еще до панихиды, когда я подошла к гробу, стоящему на сцене БДТ и еще не украшенному, — эта гвоздика легла в гроб самым первым цветком. Как случайное напоминание о том летнем утре, когда светило солнце, посреди Сибири нам пели цыгане и ему было на редкость радостно. Встречаясь с ним, я никогда ничего специально не записывала, заметки копились в разных статьях (публиковать их казалось каждый раз неловким, так и оседали в компьютере). Записала единственный раз — наутро после последней встречи, 21 ноября 2001 года, не зная, что она последняя. «Утро. Звоню Володину. „Мариночка, прости меня, я вчера плохо говорил о Л. Я был вчера с тобой неискренен, когда сказал, что ТУТ у меня что-то появилось, а с Л. исчезло. ТУТ тоже нет, как и не было, но и ТАМ исчезло, вот в чем дело. Понимаешь — раньше ТУТ не было, а ТАМ было, а теперь нигде нет, не дай Бог тебе испытать такого полного одиночества. А со мной случилось. Значит, это подготовка к последнему концу, если мне уже ни там, ни там ничего не нужно“. Мы договорились теперь снова каждый день разговаривать». 
Марина Дмитревская и
Александр Володин (1999) До этого в нашем общении была большая пауза: он опять куда-то провалился, я же не могла позвонить ни с чем хорошим (не удался счастливый финал истории, которую он назначил счастливой). Как-то случайно Бог послал мне собеседника из другого города, который подолгу читал по телефону стихи Пастернака, Заболоцкого и Мандельштама. А мне, чем было ответить мне? Я прочла ему Володина, обревелась и кинулась звонить А. М. Он оказался неожиданно трезв, уже некоторое время лежал: отказали ноги («Но к весне встану!»). На следующий день я приехала к нему, мы проговорили больше пяти часов, он охал над моей историей, а наутро уже советовался по телефону, звонить ли Л., — и целую неделю мы активно, как в самые бодрые времена, обсуждали проблемы личной жизни. В наших последних разговорах он объяснял мне, как недостойны поступки «того человека», опять мучился, что не женился на Л., хотя она выучила наизусть всего его любимого Пастернака, и тут же оправдывал себя: она не работает, живет за счет мужа, а ведь тоже театровед… Может, позвонить? Или пусть я позвоню подруге Л. Маше, и Маша попросит Л. ему позвонить… Словом, он как-то ожил, включился в жизнь, опять пошло: «У меня то же самое…» Дальше я уехала в Екатеринбург. Вернулась 16 декабря. «Володин звонил?» — «Нет». Странно. Завтра позвоню сама. А «завтра», 17 декабря, в три часа дня звонок в редакцию: «Вы можете уточнить подробности смерти Володина?« Потом ничего не помню. Все время приезжало какое-то телевидение. Потом заехал Кирилл Юрьевич Лавров, выпили рюмку, помянули, договорились, чтобы панихида была в БДТ. Потом пришел Гриша Козлов (он любил А. М.). Потом все перевернулось и спуталось. Мой папа умер в январе 2001. Александр Моисеевич — в декабре 2001. Так закольцевался тот год. Он умирал в сознании. Марьям — медсестра, замечательная женщина «мусульманского вероисповедания», которая ухаживала за ним и его женой долгие годы («Царица» — звал ее Володин), — успела записать его последние продиктованные слова: «Предстоят длинные войны, которые и сами одна за другой уйдут в прошлое. Но все сбудется, все равно все сбудется…» На похоронах 22 декабря в БДТ не было почетного караула у гроба. На самом деле это была накладка, но всякая случайность закономерна. И правильно так — без караула… Кажется, второй раз в жизни на него надели галстук. Первый раз — во время вручения «Триумфа». Когда я впервые увидела по телевизору Володина в галстуке — был шок: это был не он, он ненавидел галстуки и никогда не носил их, говорил, что и к министрам ходил в рубашке. Тот, «триумфальный», ему подобрали в костюмерных Большого театра и велели надеть (на вручение он приехал в джинсах и обычном своем пиджаке, очень смеялся, рассказывая, как с утра позвонила Зоя Богуславская и спросила, привез ли он смокинг. Смокинг! Пришлось согласиться на галстук и воспользоваться костюмерной). На вечере в честь своего 80-летия он тоже был без галстука. С утра 10 февраля А. М. заболел жестоким гриппом с высокой температурой, и было понятно: всё отменяется. Мне позвонила Нина Усатова, и мы договорились с утра заглянуть к нему на пять минут, поздравить. Я везла газету «Миленький ты мой» («Петербургский театральный журнал» выпустил ее, чтобы каждый человек, пришедший в тот день в любой театр Петербурга, осознал: он живет в одно время и в одном пространстве с Володиным). Нина — огромную корзину всякой снеди: «А на дно я положила поллитру. Сегодня ему нельзя, но когда он через несколько дней докопается до дна корзины…» А. М. лежал недвижим, в ногах — врач, то есть — серьезно. Мы поздравили его и быстро ушли. К моменту, когда я приехала с Петроградской на Приморскую (а это недолго), телефон уже звонил, и ликующий голос заговорщицки сообщил: «Ты знаешь, что было на дне Нининой корзины? Бутылочка… Я выпил — и я здоров. Я поеду в Дом актера!» Володин действительно прошел огонь, воду и медные трубы. Огонь войны, воду оттепели… Что же касается медных труб, то при упоминании имени Володина они как-то сами собой превращались в отряд горнистов с лицами Ролана Быкова из «Звонят, откройте дверь!». Сквозь их строй скромно шествовал Александр Моисеевич Володин… Он вонзает ноги прочно это Окуджава о Володине. Он, правда, знал, о чем тоскуем мы. И теперь знает. Как мы тоскуем о нем. И написать об этом никогда не получится. …Я иду по Петроградской. Вот на Карповке свернул трамвай… Это — Володин. Потому что солнце уже осеннее, сентябрьское, на мостовой греются голуби и похоже на Ленинград. |
|