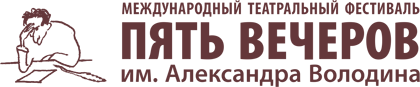Дарья Коротаева
Любовь и каучук
Проба пера. Газета Володинского фестиваля. № 3. 8 февраля 2012
 Александр Володин. «Пять вечеров». Саратовский академический театр драмы им. И. А. Слонова. Режиссер — Ольга Харитонова.
Александр Володин. «Пять вечеров». Саратовский академический театр драмы им. И. А. Слонова. Режиссер — Ольга Харитонова.
Художник-постановщик — Ольга Герр.
На полупрозрачной полубелой полосе, ниспадающей с колосников до авансцены, какие-то черные росчерки, кажется чей-то сбивчивый подчерк… Дневники Володина? Нет, образ Ленинграда: нарисованные тушью силуэты домов. И на этой сквозящей «улице», придуманной художником Ольгой Герр, в этом прозрачном коридоре, в пространстве заведомо не интимном должны разворачиваться события одной из самых камерных историй любви.
Создавая театральные обстоятельства всем нам известной истории, Ольга Харитонова концентрирует внимание на Тамаре — все ходы и пространственно-звуковые решения направлены на раскрытие ее характера. Комната героини со старинным диваном, ширмой, круглым столом и стеллажом с книгами вписывается в эти продуваемые всеми ветрами сквозящие очертания города. А и правда: почему бы нет? Скрывать патологически правильной Тамаре Алисы Зыкиной — не-че-го. И она такая не потому что живет в холодном, не приспособленном для человека, коммунальном (общественном, не личном) Ленинграде.
 Она явно сама по себе такая — как будто находящаяся вне причинно-следственных связей: строгая, общественная, трудовая; товарищ, а не женщина. Причем последнее лишь галочка в графе «пол», а первое — действительно личностная характеристика. Катя (Любовь Воробьева) говорит: «человек без любви высыхает». Так вот Алиса Зыкина играет эту «высушенную» без любви Тамару, как будто та «высушенной» на свет и появилась. Нам бы в спектакле хоть намек какой-нибудь, что она в руках не только письма Карла Маркса держала… Мы же, зрители, — подневольны, что видим, то и знаем, что нам говорят, в то и верим. И нам нет основания НЕ верить Ильину (Юрий Кудинов) в хэмингуевском свитере, говорящему Тамаре: «Ты совсем не изменилась!» И не только в этой фразе наши доводы, главная причина в том, что она в сопротивлении володинскому тексту, в котором лексически и действенно подчеркнута внутренняя перемена героини. А здесь «звезда» остается агитатором, мастером производства, воспитателем молодого советского поколения — кем угодно, только не женщиной. (А ведь сколько таких товарищей, ставивших галочку напротив «ж» в анкетах, ходили и ходят по земле советской — такой гомункул ЦКПб пострашнее соцреализма).
Она явно сама по себе такая — как будто находящаяся вне причинно-следственных связей: строгая, общественная, трудовая; товарищ, а не женщина. Причем последнее лишь галочка в графе «пол», а первое — действительно личностная характеристика. Катя (Любовь Воробьева) говорит: «человек без любви высыхает». Так вот Алиса Зыкина играет эту «высушенную» без любви Тамару, как будто та «высушенной» на свет и появилась. Нам бы в спектакле хоть намек какой-нибудь, что она в руках не только письма Карла Маркса держала… Мы же, зрители, — подневольны, что видим, то и знаем, что нам говорят, в то и верим. И нам нет основания НЕ верить Ильину (Юрий Кудинов) в хэмингуевском свитере, говорящему Тамаре: «Ты совсем не изменилась!» И не только в этой фразе наши доводы, главная причина в том, что она в сопротивлении володинскому тексту, в котором лексически и действенно подчеркнута внутренняя перемена героини. А здесь «звезда» остается агитатором, мастером производства, воспитателем молодого советского поколения — кем угодно, только не женщиной. (А ведь сколько таких товарищей, ставивших галочку напротив «ж» в анкетах, ходили и ходят по земле советской — такой гомункул ЦКПб пострашнее соцреализма).
Есть маленькая деталь в спектакле, прямо отражающая суть характера героини Тамары. Вначале вся ее голова сплошь усеяна железными бигуди. Да нет, не усеяна. Скована! И вот появляется первая и единственная любовь ее жизни Александр Петрович Ильин, перед которым она предстает вытянутой, сдержанной, с приличным наклоном головы, стоически сжатыми губами, в этом пыточном «шлеме». Так и хочется крикнуть из зала: «Ну, вот же — пришел ОН: не принцип, а принц (с поправкой на послевоенное время)!» А что мы видим? Если б во второй или, быть может, в третий вечер появились легкие кудри, ветер какой-то в волосах (ведь надо с чего-нибудь начинать?!)… Нет. Ничего. Волосы гладко и ханжески зачесаны. Бигуди приходят — бигуди уходят, а тиски остаются…Так же регламентирован в спектакле и звуковой ряд: звучит радио с подобранными по одному закону отрывками: любовная песня прерывается передачей об успехах производства. Первый фрагмент — про резиновую промышленность, и он, ко-нечно, не случаен, так как главная героиня на нее работает. Дальше говорится, что резиновая не возможна без химической (правильно — отсылка тут к псевдо-главному псевдо-инженеру химического комбината Александру Петровичу Ильину). Далее звучит фраза, которая становится главным тезисом всего спектакля: «в нашей стране нет настоящего каучука, его приходится получать искусственным путем». Только задним умом начинаешь ассоциировать химию с жизнью; с любовью, о которой во время спектакля и мысль не приходит. Любви как каучука здесь нет, но есть ее суррогат — «Уважение», и эссенция эта какая-то пресная. Когда Тамара во втором действии начинает разыскивать Ильина, кажется, что она вовсе не из-за любви это делает, а из-за веры в гражданина Советского Союза. Спасает оступившегося.

Их центральный в спектакле разговор (перед тем как Ильин собирается уйти) проходит между двумя серыми колоннами — афишной тумбой с плакатами советских фильмов и печкой-«голландкой». Расстановка сил понятна, хоть и с некоей двусмысленностью или даже перевертышем. Афиши, с одной стороны, — мечты, с другой — попытка их воплощения: мир идеальный, выстроенный, но, конечно, искусственный, более близкий натуре главной героини. И что афиша — некая формулировка жизненных принципов, видно из того, как построен диалог: метание между чувством и квазидолгом — от печки к тумбе. Печка же, с одной стороны, — маленький элемент производства, а с другой — огонь, стихия, и единственный краткий поцелуй главных героев происходит именно у печки. Но также печка — это тепло, то, к чему с холода по всем законам природы должно тянуться. Тамара сама отвечает на вопрос: «Почему в парадном целуются?» — «Потому что там тепло». Но сама не к теплу тянется, а к «правильному» укладу жизни.
Да и в герое Игоря Кудинова не любовь читается, а воспоминания, страх старения, кризис среднего возраста, запутанность — что угодно, но не большое чувство к колючей Тамаре.
Есть, конечно, в спектакле влюбленность молодых Славы (Александра Фильянова) и Кати (Любовь Воробьева), или даже точнее, нежная дружба. Очаровательная, кокетливая героиня Воробьевой тогда становится «положительной» и заслуживает «Уважение», когда помимо не котирующейся здесь женственности проявляет технические и товарищеские способности — переписывая конспект для Славы. То, что Катя и Тамара, приходя с мороза, так легко и всего на секунду, без всякой психофизической реакции, прикасаются к печке, к горячему чаю — показывает тотальную бесчувственность, невосприимчивость к теплоте.
Конечно, Зоя (Екатерина Ледяева), как ей и положено, женственна, проста и несчастна, и ей даже сострадаешь в первой сцене. Но во втором действии начинаешь понимать, что недостача вафель огорчила бы ее больше, чем уход симпатичного ей мужчины. И Тимофеев (Игорь Баголей) весьма ко всему и всем безразличен внутренне. Он даже (что всего страшней в системе ценностей, заданной в спектакле) и к заводу своему равнодушен.
Я не оспариваю, что именно такая история могла случиться, не оспариваю и правдивости характеров, сыгранных актерами с самоотдачей. Но смысловая незаинтересованность человека в человеке (а не как здесь, гражданина в гражданине) исходит не столько из концепции, сколько из актерского невключения в своего партнера. Диалог зачастую держится больше на драматургическом тексте, нежели на взаимоотношении артистов. Да, я узнаю этих людей. Да, такие встречаются в жизни. Но и у меня возникают и какие-то странные культурные аллюзии к производственной драме, к теории бесконфликтности, к спектаклю А. Попова 1936 года «Ромео и Джульетта», где ночная сцена решена на ска-мейке, и где высшее проявление любви — это дружба. То есть аллюзии совсем чужеродные поэтике Володина.