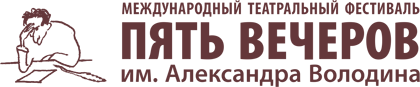Оксана Кушляева
Три на четыре
А. Володин. «Пять вечеров». Мастерская П. Фоменко. Постановка и сценография Виктора Рыжакова, художник Анастасия Бугаева
Постановка «Пяти вечеров» Виктора Рыжакова в Мастерской Петра Фоменко так и напрашивается на московско-питерскую параллель, заданную в этом номере журнала.
Только вот «Пять вечеров» — пьеса не московская и не петербургская. Ленинградская. В несуществующем Ленинграде — не только ее география, но и ее биография. Там жила володинская Тамара, там ее воплотила (именно явила во плоти) на сцене Зинаида Шарко. Вне своей исторической прописки, вне исчезнувшего города пьеса оказывается бесплотной, ирреальной. Обвиненная в 1960-е годы в «мелкотемье», в том, что на подмостки выведены простые, ничем ни примечательные люди, пьеса Володина, кажется, сейчас начинает раскрывать свой вечный, надбытовой потенциал, получает второе рождение как текст метафорический, условный.

Уходят на второй план категории времени, советского быта, уходят типажи и лица, остается один простой, но вечный сюжет…
Прошлым летом на питерской лаборатории «ON. Театр» Андрей Трусов показал эскиз «Пяти вечеров», в котором, при всей его незавершенности, был очевиден поиск новых, символических ключей для пьесы. Режиссер высвечивал в спектакле архетипический сюжет о прекрасной даме и ее рыцаре: ими постепенно становились Тамара и Ильин. Виктор Рыжаков, как мне кажется, конструирует свои «Пять вечеров» вокруг других архетипов. Его спектакль на первый взгляд сделан в привычной для режиссера манере. Он ставит Володина так же, как Вырыпаева и Бизё: структура постановки, сценический язык, подход к тексту остаются неизменными. Перед нами вновь стерильное камерное пространство. На квадратном помосте — стена-экран, расположенная на поворотном круге, приметы эпохи (некоторые элементы костюмов и кое-какой сценический реквизит), вырванные из контекста, откалиброванные, будто лишенные цвета и запаха, становятся скорее метафорическими характеристиками героев, чем временными координатами. Текст пьесы исполняется: музыкально-ритмическая составляющая преобладает над смыслом слов. Актеры застывают в условных позах, не играют прямых обстоятельств.
В ушах жужжат, не оставляют в покое навязчивые интеллигентско-петербургские вопросы: математический расчет и стерильное пространство — разве это не убийство володинской «прозрачной» пьесы? Неужели можно «Пять вечеров» поставить так же, как «Июль», «Кислород» или «Рыдания»? И не обесценится ли пьеса, если, как рентгеном, высветить только структуру, очистив от всего, что принято называть «володинским»? Эти вопросы раздражают, требуют сравнительного и культурно-исторического анализа, цитат из академических трудов о драматурге. Однако отбросим привычный «болотный» скепсис, отмахнемся, как от мошкары, от питерского снобизма…
На сцене появляется Тамара — Полина Агуреева. Она в бесформенном сером плаще-балахоне, с прической-коконом под зеленым газовым платком. Под звуки утренней радиозарядки Тамара начинает свои престранные телодвижения. Она как будто бы комична, кажется, вот-вот Агуреева проявит себя в амплуа клоунессы. Но как иная — не клоунская, не эксцентрическая — природа у актрисы, так природа ее героини — не предмет для карикатур. Сущность Тамары как раз и заключается в том, что она иноприродна. Кому? Славе, Ильину, Тимофееву — мужчине. Вся ее на первый взгляд комичная странность оборачивается, благодаря какому-то неуловимому режиссерскому приему, в чистую поэзию. Что за диковинное существо эта Тамара! Будто птица или бабочка. Ильин говорил — «звезда», но если и звезда, то уж, наверное, морская. Сидела в своей маленькой клетке, коконе, аквариуме − коммунальной квартирке, а тут «откуда ни возьмись» (не зря все отмечают сказочную природу пьесы) появился заурядный человек, широкоплечий, в черном пальто, — уверенным движением проделал брешь в стене, сломал, как водится у Володина, перегородку, разъединяющую людей, а за ней обнаружил и не человека вовсе…

Вся бравада, с которой в буквальном смысле вламывается Ильин — Игорь Гордин к Тамаре, тут же исчезает, когда он узнает, что у нее никого никогда не было. Это ключевой момент спектакля. Лицо актера отражает сложный процесс осознания этого маленького, но непостижимого для его героя факта. Ему не пережить и не осмыслить пожизненное ее ожидание: испуг, ужас, вина, − и он уже готов сбежать. Возможность такой развязки явлена режиссером отчетливо. Рыжаков будто представляет нам самые неразрешимые «володинские» вопросы отраженными в кривом зеркале: зачем расставаться с любимыми, зачем возводить друг меж другом перегородки? Рушить — не менее жестокое занятие. Разрушивший — в смятении и готов бежать, «спасенная» − только что лишилась несущей стены своего мироздания. В спектакле Рыжакова все с готовностью рушат «перегородки», а ближе и понятнее друг другу не становятся, потому что разносущностны, разноприродны. Это не оказывается поводом для трагических выводов, но дает спектаклю необходимый градус драматизма.
Режиссер в сконструированном, «головном» на первый взгляд спектакле вызывает создает один непостижимый, иррациональный женский образ — из многих. С первых минут появления на сцене Кати понимаешь, что выбор на эту роль талантливой студентки Школы-студии МХАТ Яны Гладких не случаен. По энергетике, обаянию, по всей ее актерской природе и даже внешне — она чуть более юная и, может быть, несколько более склонная к эксцентрике ипостась Полины Агуреевой, а вернее, ипостась их общей героини. Сложнее дело обстоит с третьей — Зоей. Однако Рыжаков не повторяется, Зоя Евгении Дмитриевой сначала кажется земной, даже вульгарной. Но оказывается, что и продавщица гастронома, если приглядеться, такое же неординарное существо. А приглядеться режиссер нам дает в сцене встречи с Тамарой: прячась за разными краями разделяющей их белой стены, робко выглядывая, чтобы увидеть собеседницу, Тамара и Зоя ведут диалог. Их сходство подчеркнуто визуально: в одежде, прическе, хрупком телосложении. А когда Зоя, осмелев, выходит из-за угла, чтобы рассмотреть наконец ту самую «звезду», ее, конечно, разбирает смех. И это не смех злой радости превосходства над своей соперницей, а смех удивления. Ведь никакой звезды она не видит, перед ней такая же, как она, обычная женщина. И все-таки Зоя отличается от Кати и Тамары, к этой героине когда-то давно уже приходил кто-то широкоплечий и в пальто, открыл с размаху дверь, снес перегородку, а потом сбежал, руководствуясь законами совести и нормами морали, испугавшись непостижимой женской природы.

Мужчины в спектакле Рыжакова: Ильин — Игорь Гордин, Тимофеев — Алексей Колубков, Слава — Артем Цуканов — выполняют режиссерскую функцию. Они приходят и устанавливают порядок, создают структуру жизни: цветы, продукты, урок борьбы, лекции о химии, приглашения в кино, починка радио. Женщина все разрушает тем, что не вписывается в эту режиссерскую структуру: то ли не понимает, то ли не узнает ее. Так не понимает Тамара придуманной для нее Ильиным роли великодушной жены, идущей за ним на край света.
Мужчина у Рыжакова логичен, понятен. Пусть он иногда испуган, нерешителен, уязвим, но в своих действиях он руководствуется логикой, совестью и разными другими человеческими законами, думает, рефлексирует, взвешивает свои решения. Женщины — Тамара, Катя, даже Зоя — неподвластны логике, совершают свои благородные поступки, не осознавая их благородства, жертвуют собой, не чувствуя своей жертвы, и тем больший груз вины и ответственности взваливают на мужские широкие плечи, которые только внешне так надежны.
Этот спектакль заостряет присутствующее в пьесе соотношение мужских и женских ролей «три на три» (три мужских, три женских ипостаси) и одновременно разрушает его. Режиссер словно оказывается четвертым в ряду мужчин — героев пьесы. Как свойственно мужчине, он создает жесткий каркас спектакля из ритмически выверенных слов, поз, мизансцен и при этом, кажется, с наслаждением смотрит, как этот каркас разрушается энергией трех актрис, которые полувзглядом, полуулыбкой, поворотом головы делают плоские символы метафорами, декларируемые режиссером мысли подают как откровения, превращают очевидное в невероятное, ритм — в поэзию.